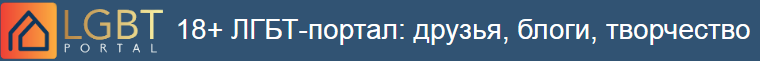Там, где начинается небольшой холм, похожий на уставшую улитку, растёт чудная клумба с жёлтыми тюльпанами. Рядом скромное жилище без особых признаков.
Мой дом легко узнать не только по клумбе и холму. Он единственный не имеющий никаких номеров.
Всего три года назад «житель от колодца» придумал нумеровать соседей, потому что из-за особенности наших имён мы плохо ложимся в летописи. Какой вздор! По мне так проще не писать имена в летописях вообще и проблема отпадёт сама собой. Но ладно же. Из-за особенностей пространственного положения моего дома я получил номер с четырьмя знаками. В этом было что-то досадное. Я ведь никогда особо не придавал значения месту моего проживания. Я никогда не задумывался: почему я здесь живу.
А на самом деле почему? Правильно: потому что моя тонкая артистическая натура увидела в этом замечательном холме в форме улитки плацдарм для наслаждений вечерним закатом, утренним восходом или что там ещё?
Теперь же моё имя: «одна тысяча», и каждый день оно напоминает мне насколько велико расстояние до остальных. Ладно, я, конечно, могу попросить сократить до: «тысяча». Спрашивается, почему из-за особенностей пространственного континуума суждено сносить сие ужасное имя?
Один мой сосед, Двести десять, предложил перенести точку отчёта. С начала мне показалось это смешным, но после идея сформировалась в действие: «Теперь ты будешь номер один в моей точке отсчёта» — сказал я ему. «Хо! Звучит свежо! Как минимум на двести девять меньше» — пошутил он.
Знаете что, а Двести десять хороший шутник. Правда частенько остальные соседи не могут различить его шутки от «прозы», но я стараюсь думать, что он всегда шутит. Так спокойнее.
Под вдохновением дела, этим же вечером мы вытесали красивую плоскую дощечку, и прилепили её к дому «двести десять»: «номер один». Теперь их висело две: одна — двести десять, а другая — номер один. Мы шутили, что даже если бы не случась эта история с дурными именами, я бы всё равно рано или поздно назвал его «номер один». И это стопроцентная правда. Стал бы я проделывать такие марш броски, лишь бы посидеть за плюшками ради какой-то там вежливости! О нет!
Видите ли. Двести десять — сосед, который хорошо слушает и глубокомысленно молчит, что очень немало для такого много говорящего индивида. Кроме того, он единственный кто три года назад оказал поддержку при переселении на край общины.
Триумф был близок! Не прошло и пол завтрашнего дня, как ко мне подбежала «три девятки», и слёзно просили сделать табличку. Я отослал её к Двести десятому, и к вечеру на доме Трёх девяток красовалась красивая цифра: «2».
А уже за следующий день, я успел одним махом раздать ещё двадцать номеров. Двести десять прибавилось работы, и я уговорил Девятьсот девяносто пятого за «номер семь» помочь. Ах, как это было прекрасно!
Утро. Чашечка тёмного шоколада. Сапфировые лучи свежей зари. Ты выходишь на улицу. И видишь, что все дома увешаны твоими табличками. «Что значит моими?», — спросите вы? Ну а как же! Это же я дал им номера! Это я точка отсчёта! И что самое интересное, соседи сами не прочь поменять свои длинные трёхзначные на уникальную последовательность чисел с моей лёгкой руки.
Правда, дальше пошло немного хуже. Если с Двести десятым было ясно, что он первый. Если с моими ближайшими соседями примерно было ясно, что они «в десятке». То после пятнадцати начались серьёзные проблемы: «Как было понять — кому, какой номер предназначен»?
Я нервно бродил около холма, впитывая кожей вечернюю свежесть. «Так, так, так» — стучало в котелке. Мою дилемму разрешил Семьсот третий. Он предложил хворост и кило сливочного масла за двадцать седьмой номер. Таким образом, моя увеселительная идея с точкой отсчёта приняла материальный оборот. Погреб уже казалось, был забит, когда я остановился на восьмидесяти. А последние двадцать номеров разошлись путём розыгрыша. Остатки празднества я роздал соседям из первого десятка.
Впрочем, ажиотаж спал уже на сотне, что было весьма логично. Но Семьсот третий придумал «финтель»: «Давайте отдадим досточки с номерами Тридцать пятому. Он сможем раскрасить их за небольшой паёк, а пайка у нас много». И верно — разукрашенные номера от тридцать пятого расходились на ура. Главное то, что для тридцать пятого новый номер не имел смысла. Ему и так было хорошо с двумя разрядами. А адептов «новой точки отчёта» теперь привлекали красивые таблички, сделанные руками замечательного искусника.
Признаюсь, что кроме заядлой радости, внутри меня поселилось жуткое предчувствие «неприятностей». А вам требуется знать, что все жуткие предчувствия рано или поздно воплощаются в реальность.
Четвёртым утром, наш голова Третий, увидал новую табличку с номером и восторженно заявил Шестому, видит ли он эти замечательные таблички. «Ах, такие замечательный таблички!» — кудахтал Третий. Шестой, как обычно, умел смотреть в корень, а в данном случае в номер. Он заметил не то, что таблички были красивыми, а то, что на них красовался совершенно неясный номер. Но разозлился он из-за иного: «Да что же это такое! Кто так считает?! Где это видано, чтобы после 235 шёл 314» — причитал он. Второй же заметил, что новые таблички были более светлого цвета, чем старые. «Какие они светлые!» — радовался он. Пятый был специалистом по начертаниям, а Четвёртый отметил, что некоторые таблички висят чуть кривее линии горизонта. Такое утреннее кудахтанье не могло не дойти до Седьмого.
А ведь именно Седьмой был как раз тем самым «жителем колодца», который и придумал номера. С моей стороны конечно предвзято, но поспешу заявить, что он ещё «тот тип». Бьюсь об заклад: жил бы он там, где я — никогда бы не предложил свой наглый «отсчёт».
И вот ледяное утро следующего дня ознаменовало начало неприятностей. В посёлке бродили три соседа и голословили, что к трём часам после полудня прийти всем на общинное великое собрание, на котором…. Дальше я и слушать не стал, так как к двум часам меня препроводили в особо торжественной форме, выдав личную охрану и свиту.
Как это зачастую бывает, собрания — массовое средство выброса и вброса дури. Когда-то у меня даже наклёвывалась умозрительная теория, что частота собраний косвенно зависит от количества голов в общине, а это самое количество голов прямо связано с распределением дури на одну голову. Смотрите сами, чем дури накапливается больше — тем чаще собрания. Было бы иначе! Дык нет! Единственное полезное собрание, которое мне запомнилось бы, ещё не случалось! То спорили, какого цвета штаны носить, то какой формы крышу класть, то как нужно правильно ложку с вилкой держать.
Следует уяснить, что собрания проводятся только по тем вопросам, которые один человек решить никак не может. А ведь давно известно: в толпе глупость множится, а мудрость — делиться. Толпа нужна лишь говорящему, которому завсегда кажется, что молчание — знак согласия.
Дальше рассказывать — язык ломать. Вспомнили мне всё. И что руки у меня не стоячие, и что лени во мне больше чем воды в колодцах. Напомнили даже как переселили на окраину. И, какой у меня раньше номер был, и что я учудил. Поглумились, что в норе живу. Дома своего не построил. Даже клумба и та — нарисованная.
Странно, чего тут сказать. Дом себе не построил, живу в конуре. Зато холм красивый. Там и рассветы с заказами в гости ходят. Цветы, правда, нарисованные. Зато «тридцать пятый» так нарисовал, что и от настоящих не отличить. Ленивый я? Может и ленив. Но как таблички раздавать: лени не чувствовал. Ноги сами бегали, руки сами давали. А вот, что только от меня глупость прёт — так это выдумка. Разве не глупость братьев называть по номеру жилища? Стало быть, дома важнее хозяев? Кто придумал такое? Кому в голову гвоздя не хватило?! Разве не хозяин дом красит, цветы садит, собор ставит, окна рисует? Или это дом хозяину на лбу финтили разводит, а на голове прическу хорошит?
Всё перед советом разложил по косточкам. Смотрю тишина словно на рассвете.
— Видишь, Седьмой, не всё так красно, как на слове. Хотя молвить — тебя хлебом не корми. Но и Одна тысячный где-то прав.
Совет загомонил, но Шестой поднял руку, и продолжил:
—Пока не было у нас летописи, на имена мало кто смотрел. Может быть сейчас стоит задуматься? Ведь не только Одна тысяча решил сменить себе номер, но и многие присутствующие.
После долгих споров и советов, решили просто. Если мне номер мой не нравится, значит самому надобно придумать название другое. Такое имя, которое бы меня удовлетворяло с одной стороны, но и с обычными словами не путалось. Дали мне на это три дня и три ночи. И поставили условие, что если за указанный срок не придумаю — ухожу из общины на все четыре стороны.
* * *
А ещё говорят: «проще сказать, чем сделать». Нет уж: сказать сложнее — сделать проще.
Можно назваться «Лучший». Кто бы тебя ни позвал: сразу похвалил. В какую летопись ни попал: «А главного видно». Но вот, если какую-то гадость сделал или оплошал, то и имя туда же. Да и как его наедине с собой использовать? Тебе ли знать, что нос кривой, что волосы грубы, что голос не певчий, что руки у остальных попроворнее, а ноги порасторопнее, а если за голову говорить, то вообще «тссс». Одно дело, если такое имя кто-то другой дал. Ты и думаешь: «ну дурак». Но ты ж не дурак. А если дурак, то не так, чтобы дурак смог почувствовать себя, как дурак.
Или ещё худший вариант: «Храбрый». Назовёшь себя так, и помрёшь раньше других. Главное, никто спасибо не скажет: если храбрый, то и умри как храбрый.
Назовёшь себя: «Умный» — каждый идиот захочет переспорить. И ведь переспорит, ведь как понять ему иначе? А каждый ленивый за советом придёт. Если и повезёт дать совет правильный, то ещё должно повести, чтобы верно совет употребили. Что, по сути, за чудо сойдёт, не меньше. И чудес на всех пришибленных не наберёшься. А если совет не в пользу, назовут «Обманщиком». Вот и живи так: не дал совет — плохо. Дал — хуже в двойне.
Назовёшься «убогим» — сам начнёшь верить. Рано или поздно, если сказал, что Олень — рога могут вырасти. Причём не обязательно на голове. Иногда в таких местах, да так отрастут, что лучше голову потерять, чем от них избавиться.
Назовёшься предметом или явлением, не отличат от живого. Скажем: «стена» — ещё смеяться начнут. Поговорки придумают. Пословицы: «Об тебя, как об стену горохом». Смотришь, а имя из имени снова словом стало. А образ забудут. Меня забудут — а пословицы запомнят.
Назовёшься животным, станут ярлыки вешать: «Да, ты как медведь прямо». Или «смотри на суслика: и есть и ни ест».
Может быть, в самом деле, прежнее имя неплохо. Одна тысяча — и одна тысяча. Сказать никто ничего не скажет. И характеристику никто не сплетёт. Ну, дом далеко — и что? Ну, цветы нарисованы — и что? А оно как было одна тысяча, так и осталось невидимым, безвкусным именем. Может быть, именно от таких имён больше пользы. Чтобы никто не смог о тебе набраться суждений.
Да и потом мы меняемся. Иногда, год прошёл — и не узнать. Что делать?! Каждый раз имя менять? Как в летописях писать тогда? «Родился Лучший в таком то году. Возмужал. Стал Храбрым, ногу в бою отсекло. За удачу прозвали Медведь. Пошёл мёду добыть, чуть голову не свернул, руку потерял. Назвали — Убогим. Через год пробовал утопиться от горя — выплыл. Назвали бревном. Так и лежал бы на печи, как бревно, пока не спас деревню от пожара. Назвали умным. Посмертно».
Прошло за этим делом два дня. На третью ночь настала очередь собирать пожитки. Что ж. Дома нет. Цветы ненастоящие. А закаты и рассветы — показывают повсюду. Уложил одна тысяча пожитки в мешок, остался у него только бочонок мёда после раздачи номеров.
Тут он рассудил так: «Бочонок не коробок. Лучше оставить кому надо». Неплохо бы только записку добавить. Сел он, и написал: «Даю тебе бочонок мёда, потому что….». Однако. Если подумать: бочонок не мой. Но он у меня. Значит он мой, но условно. А раз Двести десять это всё придумал, то бочонок больше его. Это выходит я ему его же бочонок и отдаю. Глупо…. Напишу иначе: «Возвращаю бочонок мёда». Хотя, что значит «возвращаю». Я же не одалживал. Значит, и вернуть не могу. Да и не в мёде дело. Надо что-то бы ещё написать. Только что именно — не ясно.
* * *
Приближался рассвет. Кинул одна тысяча дела, погасил ночник и решил, что скажет так. Тихо ему шлось до двести десятого дома. Настолько тихо, что казалось, если сейчас что-то шепнёт или крикнет, все дома возьмут и пропадут в тумане. Может быть, поэтому ему показалось неудобным видеться лично. И когда дошёл он до дома двести десятого, взял чёрный уголёк в руку, и начертил на бочонке всего три слова: «Добра не унести»…
* * *
Ветер полудня играет с полем, дразнит призрачными запахами. То возникнет чебрец, то скромная ромашка, то горькая полынь. А вокруг — бурьян. Оглядываешься по сторонам, пытаясь понять: «Где?». Но нет их там. А время от времени запахи являются вновь. Неуловимые, но сверхявные посланники разнотравья. Наверное, очень далеко. Доносится лишь тень аромата. Но разум впивается в тень. Смотрит пристально. Расплетает на нити. Ему проще объять необъятно малое, чем обнять бесконечно близкое. И в этом есть какая-то откровенная ирония, хоть и до смерти жуткая. Намёк на то, что невозможно понять себя, если нет способа отдалить себя. Нет способа уменьшиться, чтобы осмотреться. Или на самом деле вера в мнимый титанизм своего рода блокирует мысль оказаться частью целого. А если всё наоборот?
Одна тысяча, казалось, и до вечера не пройдёт треклятого бурьянного поля, дразнившего его запахами чебреца и полыни. Он был уверен, что плутал в лабиринте. Но вместо стен — убегающий горизонт, а вместо ловушек — пьянящие запахи многотравья. Солнце утомило его тело, а мысли утомили душу. Он заткнул себе нос. Постоял несколько минут. Лепота. Хорошо, что нос не нужно откручивать, чтобы заткнуть. Но не успел он насладиться, как в голове снова зажёгся аромат чебреца. «Да, чтоб ты провалился!» — разозлился Одна тысяча. И пока он думал, можно ли как-то открутить голову, так чтобы та ни о чём не заподозрила, его глаза нашли на горизонте странную чёрную точку. В этот момент запахи пропали. Вскоре чёрная точка медленно превратилась в верхушку дымоходной трубы, а потом показался весь дом целиком.
«Один дом?» — спросил он сам себя, чтобы понять, обманывается ли он на самом деле. Но дом не оказался призрачным. Пусть полуразваленный и высушенный ветрами. Зато крыша ещё стояла. Старые гигантские серебристые тополя хранили окна от вездесущих ветров. А за ними виднелся маленький сад. Кланялась под такт ветру, одинокая яблоня подбирала рассыпавшийся жемчуг подружки шелковицы. Поближе к окнам виднелись границы бывшей клумбы. Знакомых глазу цветов тут не было, кроме эннадцати горящих красным пламенем ярких головок. Какая-то часть их уже пала, какая-то ещё готовилась распуститься. Одна тысяча никогда не видел подобных цветов.
Он был уверен, что дом пуст, но живая фантазия уже нарисовала ему две малоприятные вероятности, в которых его выкидывали с крыльца, обзывая нарушителем. Одна тысяча мысленно отсёк хоровод глупых мыслей, однако же на цыпочках приблизился к двери. Она оказалась свободной, хоть и отворилась не сразу, пискнув, словно издавая жалостливый стон. Странник вошёл внутрь, огляделся. Повсюду валялись бочонки, банки, ложки. Где-то он заметил засахарившийся мёд. «Правильно, что оставил там», — думалось ему. Тут была и печь, и аккуратно уложенная утварь, без сомнений, чистая в прошлом. На столе лежал хлеб и нож, словно кто-то начал свой последний ужин, но невольно забыл. Одна тысяча подошёл, покрутил кухонный нож, ещё огляделся по сторонам. Никого. Он потрогал хлеб, высушенный временем, и тогда точно понял, что если тут кто-то и был, то этот кто-то крайне сильно запоздал. Ему показалось, что сейчас он столкнется с трупом, а поскольку до сих пор ничего похожего не замечалось, Одна тысяча решил, кроме кухни никуда не заходить.
Не то, чтобы он очень боялся мёртвых. Больше всего он боялся того, что при встрече с ними, обязан будет исполнить свой долг, и придать тело земле. В этом ему чудилось некоторый негласный обман, хотя он и не мог сообразить: «какой обман и в чём предательство». Но обыскивать весь дом он не стал. Для ночлега сгодилась кухня. Кроватью стал старый сундук. Одна тысяча заделал дыру в стене, набил в постель соломы и улёгся. Ему было слышно, как ночью бродит ветер, как оттачивают трели светлячки, и даже как светит луна. Одна тысяча закрыл глаза. Рука невольно соскользнула вниз, и почувствовала что-то холодящее, металлическое. Видимо это была щеколда. Он перевернулся на бок, и через некоторое время впал в дрёму.
Звуки светлячков растворились. Шум ветра сделался громче. Вокруг дома бушевал неведомый океан, разносящий тысячи брызг, отражавшиеся в лунном свете, как серебряные бусины. Вдруг он проснулся посреди ночи. Шум большой воды слышался всюду. Одна тысяча захотелось выглянуть в окно, чтобы убедиться. «Надо срочно закрыть дверь, чтобы не затопило» — подумал он в полудрёме. И быстро пошёл закрывать дверь. Потом, нащупав спички, зажёг одинокую свечу. В окне ничего не было видно. А шум волн был близким и чётким. «Теперь, отсюда не убежать» — подумал он. Он смотрел на старую свечу, и думал о многом. Думал о том, что будет, когда она догорит, и что будет ещё потом. Голова снова мешала ему пожить в спокойствии и тишине.
Тут его взгляд упал на сундук. Одна тысяча обрадовался. Теперь он сможет занять чем-то руки, а значит освободить голову. Подолгу не медля, он открыл его и нашёл вместо старого тряпья каменные закручивающиеся ступеньки, ведущие вниз. Это вовсе не удивило его, хотя он подумал о том, что должен был бы удивиться. Хотя бы для приличия. Взяв с собою запасную свечу, он пошёл вниз.
Он думал: «Какой в этом смысл?» Куда бы могли вывести эти ступеньки, если кругом бездонное море воды. Но и в другом случае — терять нечего. Идти, всё-таки чуть веселее печального дома. Всё дальше и дальше, всё глубже и глубже спускались ступени. Постепенно шум внешнего шторма стих. Когда оставалась половина второй свечи, одна тысяча подумал, что ему стоит вернуться. Он словно очнулся ото сна. Теперь ему казалось, что он совершил страшную глупость. Надо было вернуться раньше. Он глянул наверх, представил, как будет подниматься по крутой лестнице, и отклонил идею.
«Если света нет» — думал он, — «проще идти вниз, чем наверх». Так думают все, кто спускался недолго. Но уже через час, ноги отказывают. Одна тысяча пришлось присесть на ступеньку, чтобы не покатиться кубарем вниз. И даже здесь, в тёмном плохом месте мысли не оставляли его. Он думал о свечах, подъёмах, спусках. О бочке с мёдом…. О запахе чебреца? Но тут не может быть никакого запаха. И вот на этом месте, он понял, что всё стало настолько плохо, что можно не бояться сделать ещё хуже. Он улыбнулся. И подумал, что весьма глупо улыбаться в полной темноте. И в этот момент он мягко заскользил, словно вдруг ступени прибрались, и образовали горку.
Запах мятного чебреца возвращался из ниоткуда. Тело набирало скорость, и через мгновение которое успело в сознании сравняться с вечностью, Одна тысяча вылетел в двери собственного холма, упав куда-то в траву. Он безошибочно знал, что это было его поле, и его склон. Вдруг всё осветило. И когда он поднялся на ноги, вокруг него стелился волшебный благоухающий чебрец. О! Он знал, что это значит. Он знал! За горизонтом расходился гигантский взрыв. И так получалось, что одна тысяча откуда-то точно знал, что этот взрыв накроет их всех. Он, бегом добравшись до ближайшего дома двести десятого, резво проплыл сквозь двери. И оказавшись в комнате, увидал Шестого и Седьмого, уплетающего его бочку мёда. Одна тысяча среагировал быстро:
— Быстро дожирай мёд! — скомандовал он Седьмому, который погряз в сладком мёде, находясь на пути ко дну бочки.
Одна тысяча подошёл к окну, глянул на Шестого, и, показывая пальцем в окно, продекларировал:
— Ну, так что?! Дом? Цветы? — Шестой одиноко кивнул ему. — Не нужно напрягаться. Всего есть.
Одна тысяча торжествовал. Он тихо налил чаю, удобненько устроился у окна, готовый наблюдать за уничтожением «всего, что есть». Горячий чай жадно расходовался с причмокиванием и презрением в сторону седьмого. Всё выходило как нельзя лучше. Только чего-то не доставало. Точнее не хватало Двести десятого, который сидел спиною ко всем. Его голова накренилась вниз, плечи ссутулились, и тело не шевелилось. Одна тысяча вдруг увидел это. Миг назад он был уверен, что перешёл предел «плохих новостей»: ступеньки, ноги, а теперь за окном миленький хаос из замечательного сиренево-бирюзового взрыва. Но теперь его что-то снова сдавило изнутри. Он выглянул в окно: всё было хорошо. Радужная стена небытия плыла издалека. Седьмой почти заканчивал лизать бочку. Одна тысяча повернулся к Двести десятому и произнёс:
— Да…. Ладно. Это просто шутка.
Но двести десять не шелохнулся. Одна тысяча набрал воздуха, и закричал изо всей силы:
—Шутка!!!
На этом адском крике муторный кошмар прервался.
* * *
Утро не задалось с самого начала. Одна тысяча всё ещё видел сквозь солнечные лучи блеклую картинку бесконечного поля чебреца. Он всё ещё помнил странный полёт над бесконечными ступенями. Правда, теперь уже не помнил ни почему, ни зачем. И тут его рука снова нащупала щеколду! Ах! Вот она! Ему показалось, что он уже делал это однажды, и необычное дежавю заставило поспешить разобраться.
Внутри сундука оказалось обыкновенное тряпьё и десяток тетрадей. Одна тысяча скучно повертел скарб, и от скуки принялся перелистывать:
«Жарцветки садить в апреле, или в марте. Живут только лето, зато через три месяца радуют глаз.»
Тетради делились на несколько групп. Часть была посвящена медоносам, часть садовым цветам. Что-то было по плодовым деревьям. Во всех записях содержались непонятные названия, которые одна тысяча никогда не слышал. Та тетрадь, что была не дописанной, хранила знания о каком-то цветке «Ай»:
«Семена имеют плохую схожесть, зато большой срок годности. Прорастают в самые засушливые годы, когда ничего другого на грядке не выживет. Воды много не любят — гибнут. Но и без воды — не смогут. Те, что вырастают, не обязательно цветут. Но если цветут, то цветут всё лето и даже осень. Люблю их бордовый бодрый цвет.»
Рука перевернула страницу:
«Много лет думаю, как их назвать. И вот надумал. Это имя — самое суть. Есть в нём упрямство и лень, смешанная с красотой беззаботности в сложные времена. Есть в нём холод индивидуализма, и тепло красных лепестков. И хоть никогда не угадаешь, время всхода цветов, всегда жду их, как чудо. Они как старые друзья, которые приходят сквозь время, когда никого не остаётся. Бросив семена однажды, кто-то будет приходить из них год за годом. Теперь туго. Дождусь ли?»
Одна тысяча встал, открыл дверь: а за ней — пылающие гряды червоных бутонов бойко качались по ветру. Его настроение резко переменилось. В воздухе появился призрачный запах чебреца и полыни. Словно для него это было дыханием новой жизни, полное сладких снов, закутанных горькой явью. Он улыбнулся и прошептал им. Прошептал всем и самому себе: «Ай»