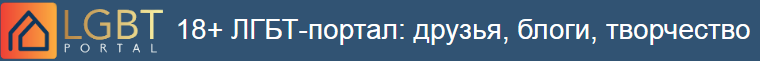Вторая секунда
От Dante,
Олег обернулся и понял, что он дома. В незамутнённые стёкла светило летнее солнце, нагревающее красный ковёр и диван. Тикали часы на серванте. Олег откуда-то знал, что сейчас три часа и двадцать семь минут, хотя на стрелки ни разу не взглянул. Он понемногу начал привыкать к новой способности чётко знать время, словно секунды пролетали сквозь тело, и каждая выкрикивала имя. «Меня зовут мама» — кричала третья, «Меня зовут восхищение», — кричала следующая, «Меня зовут жизнь» — говорила первая, а вторая проходила тихо, пряча лицо, потому что её громко называл каждый, кто появлялся на свет.
- Читать далее...
-
- 10 комментариев
- 1 070 просмотров