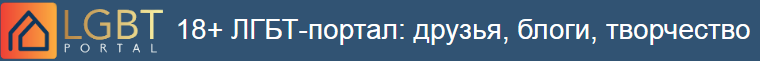Зимой начинался «сезон бассейна», и нужно было решать: ходить или не ходить. Неприятная мысль о том, что придётся оголять тело в присутствии остальных, вызывала отвращение. Но пугало меня иное: «А если мой друг вдруг». «Никакого вдруг!» — Решил я. Плавать не умею, не ровен час утону на ровном месте. Закажут панихиду, приедут родители. Станут лить в три ручья. Проблемы с ректором. Оно мне надо? Нет! А если не утону, так ещё хуже: до конца жизни запомнят: ни плавать по человечески, ни тонуть не умеет — бездарь!
Всё чин по чину. Сделал справку. Показал что инвалид. Принёс Моисеичу. Поговорили о высоком. И удалился. Больше моя нога не ступала на скользкую плитку бассейна. Пока, не ровен час принесла нечистая к Сереже отдать конспект по культурологии. Запомните или запишите: самое опасное имя в мире — Серёжа. Видите Серёжу? Бегите глупцы! Не медля!!!
Так я проник в тайные чертоги университетского бассейна — самое нутро греховного очага. Мой взор приковался к великолепным образам молодых тел. В каплях воды, разгорячённые, они роились у самого жерла дымящего котла, словно черти в аду. Их грешником был я. Но о том они не знали. Спрятав свои бесстыжие глаза за конспектом по гидрогазодинамике, я наблюдал за ламинарными и турбулентными потоками движения мышц, смотрел на дурачащихся студентов, которые лупили друг друга полотенцами, и отмечал красавчиков, словно главный редактор красной книги.
Чего только не видели мои глаза! В бассейн хлюпнулся парень из соседней группы. Белые брифы (плавок видимо не оказалось) чуть не слетели под напором воды. Я улыбнулся, закрывая рот конспектом: сними он трусы полностью, его вид не был бы столь пошлым, чем когда мокрая ткань повторяла интимные контуры. Как я мог пропустить такой пир? Как?! И пусть роскошь, звуки музыки были слышны лишь в моей голове, праздник существовал!
— Подотри слюни. Тебе ничего не светит.
Я вздрогнул и обернулся. На меня смотрели странным взглядом. Странным, и в чём-то уже знакомым. Вспомнился молодой строитель, кладущий кирпич недалеко от дома. Он не знал меня, но всегда подшучивал: «Куда идёшь?», будто имел какое-то дело до моих путей и направлений. Я смотрел ему в глаза и пытался понять: «Чего хотел?». А он улыбался в ответ. Может быть именно таким взглядом я одаривал неудачника в мокрых брифах. Не знаю. Но сейчас, помимо ноток презрения существовало что-то ещё. Или это попытка увидеть чёрную кошку в тёмной комнате? Кто знает.
«Подотри слюни. Тебе ничего не светит» — раздалось повторным эхом в воображении.
Передо мной стоял НЕ человек, но живой гомункул из медицинского кабинета для изучения анатомии. Детально прорисованные жилки и мускулы светились сквозь тонкую плёнку воска. Неужели такое возможно? Мышцы имели обычный объём, но сам рельеф был выточен так, словно их специально прорабатывал скульптор.
— Подотри слюни. Тебе ничего не светит. — С иронией сказало существо-гомункул.
Меня выбросило из первого остолбенения и забросило во второе: «Что? Как?! Меня раскрыли? Не может! Глупость! Не бывает! Я ничего не делал! Я не виноват!... Ублюдок!». Когда испуг сменился злостью, я снова обрёл контроль, решив притворяться столбом до победного конца. Но никто не обратил внимания. Невозможный человек-гомункул уходил, открывая филигранно отточенную спину. Теперь я мог поверить в господа бога, ангелов c крыльями. Я ещё раз обернулся: «нет крыльев?» Так точно! Крыльев не оказалось.
Следующие два занятия в греховном котле были пропущены осознанно. Неловкость перешла в возмущение, возмущение — в негодование. Я что, кто? Просто парень. Просто конспект по гидрогазодинамике, просто смотрю. Ведь нельзя же впитывать этот дифференциальный кошмар, не отвлекаясь на прекрасное! Кому какое дело, на что именно глазею? Если вы видите странного человека с конспектом в бассейне, который никогда не плавает и загадочно смотрит — знайте это я.
* * *
Зимние каникулы прошли в суете дней рождений. Шутил, говорил тосты, множил пустоту из ничего, а после грянул второй семестр. К моей группе на уроках физкультуры присоединились парни из филологического. Сильно сказано! На самом деле, со всех потоков курса набралось всего четыре мужских особи. Я воображал, как они падут на колени с хлебом солью, со слезами на глазах, и встретят нас. Мне всегда было интересно — как это быть филологом, ведь у самого имелась двойка по языку и пятёрка по литературе. Кто я такой? Тварь ли безграмотная или право имею? Но тут я увидел Нечеловека. Все мысли о правах моментально покинули бренный воспалённый мозг. Может, стоит заменить физкультуру на рефераты?
Но я не трус, а избегать — не убегать. Мне было интересно: подойдёт ли он сам, а если подойдёт: какую пакость выкинет. При этом старался делать вид, что меня не существует. Нужен толчок! Удачный момент. И второй раз, я сделаю что-то... Что-то... Например, дам в морду. А успею? Помнится, тело выводилось из строя раньше, чем мозг решал: «бить или не бить». А если успею, попаду ли? Об этом неудобно, да и больно вспоминать.
Я оглянулся! Предо мной лежало кладбище «не пробежавших три километра». Так назывались бетонные ножки, некогда служившие лавочкам. Теперь они одиноко стояли, словно гробовые кресты, в назидание живым учащимся. Недалеко от меня виднелась финишная прямая. Я скучно топтался на месте, и вторил под нос: «Бедный Йорик».
— Данил молодец. Физмат проигрывает филологам! Мальчики, поздравляю!
Задорно прокричал Моисеевич, чтобы остальная часть группы, затерявшаяся где-то за деревьями, смогла расслышать. Стало ли неожиданностью, когда пересёк финишную прямую ни кто-нибудь, а именно ОН, пусть без крыльев, но Сверхчеловек. И пусть в спортивной одежде его вид ничем не отличался от остальных, даже более того: выглядел банально и скучно. Я знал. Я был уверен — он маскируется. Он прошёл мимо — я отвернулся. Сделал вид, что смотрю на здание библиотеки. Мы остались практически наедине, среди могил без времени ушедших братьев. Случился молчаливый диалог. Я ожидал хотя бы... презрения? Но... увы. Все карты розданы уже ль? Все ль ставки сделаны, мой друг? Когда ж пойдём с тобой в бордель, чтоб скрасить вечности недуг...
Если апрель выдался мужественным, то май — рыдал. Дожди стремились нагнать упущенное, а уроки физкультуры нашли приют под крышей университетского корпуса. Сказать честно? Я был расстроен. Прошёл месяц — но ничего случалось. То ли потому, что я хорошо притворялся несуществующим, то ли потому, что человек-гомункул считал, что меня не существует. За это время злость выветрилась из памяти. Стыд постыл. Остался лишь вечный интерес: узнать, насколько люди похожи на меня. Или насколько я... не похож на людей.
Моё состояние повисло в незавершённости, как сказали бы гештальт-адепты. И если в тот момент, кто-то спросил: «Чего ты хочешь?». Я бы ответил: «Захотеть». Потому что не бывает более тяжкого, муторного, нежели хотеть Ничего, и ничего при этом — не хотеть.
Из этой неудобной ситуации помог выбраться козёл. Знаете, не всякий козёл, повстречавшийся в жизни — есть человек. Иногда просто снаряд, спортивный снаряд, которому совершенно несвойственно самокопание, рефлексия, мудачество. Ему совершенно всё равно — не всё равно лишь вам.
Все козлы козлисты по-своему, будь то козёл человеческий либо козёл спортивный — самое лучшее, что можно сделать с ним — перепрыгнуть без страха и упрёка. Лишь я один боялся козлов. Избегал их, стоял в стороне, думал: «А если сломаю ногу». Моисеевич подошёл ко мне поинтересовался: «Не желаю ли я прыгнуть». Я готовился сказать «Нет». Вежливо уйти. Улыбнуться и ретироваться в толпу, но стоило небрежно заглянуть за спину преподавателя: как я увидел, что Нечеловек смотрит на меня. Внутри выстрелило. Слабым огоньком вспыхнуло еле заметное безумие. Сказал: «Попробую».
Пока сознание пыталось убедить тело бездействовать, ноги набирали скорость. Оттолкнулся; полетел; больно ударился копчиком о ручку снаряда, но успешно перепрыгнул, и уже в самом конце, когда приземлился на ноги, почему-то накренился вперёд, потерял равновесие. А так как мои руки не были готовы поддержать вес — сделал кувырок через шею. Сделал неважно. Копчик ударился второй раз о твёрдый пол, шею потянуло, и возможно, если бы не врождённая гибкость, о летних экзаменах можно было бы забыть.
Зал смеялся. Я встал на колени, аки святой великомученик приподнял шею, открыл глаза. Он находился вместе с остальными, смотрел на меня ироничным, в чём-то жестоким взглядом, и свободно хихикал, ни капли не скрывая личностного презрения. Последние мысли я не помнил: но все они состояли из слов хорошо известных, которые столь нежелательно произносить вслух.
* * *
После «истории с козлом» глупые мысли об «активных действиях», «тотальное одиночество», и остальная романтическая шелуха откинулась на миллионы световых лет назад. Я прилежно занялся учёбой, прожиганием студенческой кармы, и прочими приятными бесполезными занятиями, от чего кровь остывала в жилах в прямом смысле этого слова.
Моё время, будто разламывающийся горячий хлеб, золотые крошки которого летели повсюду вкусным фейерверком. Я протягивал руки, открывал рот, и не мог словить ни единой. Но меня поражала сама картина. Само множество крох. Их казалось так много, что волнение о количестве лишалось смысла, как и беспокойство о том, что когда-нибудь они иссякнут. Я щедро раскидывал их наземь, отдавая жизнь, ничего не требуя взамен. Лишь минуты лёгкой радости, и редкой грусти приходили в гости. Я скупо накрывал, быстро проваживал их, словно мог опоздать, хотя не знал места, куда следовало бы отправиться, и назначенного часа, на который бы стоило успеть.
Механико-математический факультет был не только пристанищем «мужских мозгов», но и меккой для филологического факультета «благородных» девиц, которые нередко наведывались сюда в поисках пары. Это лишь в старых сказаниях мужчины добивались дам, законы современности диктовали новый этикет: «стыдливым не бывает монументов, а скромным суженых не выбирать». Почти все мои одногрупники смогли найти девушек среди филологов, за что получили законное шутливое прозвище: «специалист по прикладным лингвистам».
Мне казалось: в этом ворохе случайных взаимосвязей не было ниточек, которые могли бы пересечь друг друга чудесным образом. Однако теория шести рукопожатий говорила об ином. Оленька, девушка Сергея (моего одногрупника) училась вместе с Данилом — лингвистом и сверхчеловеком. Милая, с тёмными длинными волосами, она обладала завидной молчаливостью, и врождённой мудростью, если бы ни один странный порок. Он охватывал её словно смерч, затуманивая разум, бросал из стороны в стороны, заставлял говорить страшные вещи, которые бы она никогда, и ни при каких обстоятельствах не сказала бы чужим людям. Но если вдруг, если только вдруг, кто-то говорил непристойности, очерняя образ непорочных чертогов любви, Оленька вздрагивала, подлетала к первому молчащему человеку, и выпаливали ему моралистический фундаментальный ВОПРОС. И выглядело это всё по-кафкиански жутко!
Ни солнце, ни тёплый май, ни уютная компания молодых людей — ничего не предвещало беды, пока наш общий друг Николай не вздумал завести разговор о высоком проценте разводов. Спор зажурчал в тон майской весне. Я тихо шёл спереди, на два или три шага обгоняя эту говорливую компанию, и думал о чём-то своём. Процент разводов... Можно подумать, они волновали меня. В моей жизни слово «развод» чудилось таким же оксюмороном, как и слово: брак. Я не слушал, о чём они говорили. Слова долетали хорошо, но смысл терялся. Пока вдруг, ни с того ни с сего, Коля не произнёс странное:
— Если легализировать проституцию, проблемы решились бы сами собой.
Я прислушался.
— Думаете, проституция это хорошо? — спросила Оленька.
— А что здесь плохого? — С видом специалиста сказал Коля.
— Плохо то, что продают женщин! А потом кто-то плачет: женщины перевелись! Где наши женщины!
— Ну, ничего страшного, пусть будет равенство. Заведём и мужчин — Звонко засмеялся Николай так, словно ему уже представился редкий случай.
— Про мужчин вы можете у Данилы Анатолиевича спросить. Имеется опыт работы.
Я остановился.
— Кем это он работает? — Спросил Сергей.
— Тем самым, — Оля перешла на серьёзный тон. — И не нужно на меня так смотреть.
Вдруг ураган обнял её. Листья закружились вокруг. Пыль стала столбом. Оленька нагнала меня, и, уставившись праведным взглядом, спросила:
— Вот вы Эдуард, согласны стать проституткой?
— Только валютной, — неумело пошутил я.
— Данил Анатольевич..., именно такой.
Я не сразу понял, о чём речь. Мой первый парень «бегал» за мной месяц, пытаясь всякими способами объяснить, что между нами нет дружбы. Казалось ли это странным? Смешным? Забавным? Люди часто вспоминают прошлое с улыбкой. Но здесь не было ни смешного, ни забавного. Я помню, как его искренние порывы разбивались о невидимую стену отрицания. Он злился. Угрожал ударить. Но все попытки остались осмеянными из-за предубеждения.
Я не сразу понял, о чём речь. Когда не знаешь, что возможно, а что — нет, даже если слова кристально ясны, а действия очевидны — осознать тяжело. Если ты уверен, что в клетке тигр — не верь глазам своим, там нет тигра! Если ты знаешь, что «проституция» — женского рода, сложно представить иное. Но ещё сложнее представить, чтобы студент, учащий в передовом ВУЗе, мог заниматься чем-то жутким.
Люди кажутся нам такими, какими мы бы хотели видеть самих себя. Обманщик — видит обманщика, подлец — подлеца, а вор — подозревает во всяком вора. И лишь зависть или обида заставляет исказить мир так, чтобы всякий, кто неугоден, виделся жалким. Проще унизить, чем подняться самому.
Умом я понимал, что сплетня глупая, бестолковая, что нет ни единого основания, так думать. Но, где-то глубоко, ощущал удовлетворение. Этот хамоватый парень, который причинил дискомфорт, неудобства, который смеялся, странно смотрел. Он был грязен, низок, ничтожен! Разве человеку требуется что-то ещё для радости?
Отныне я перестал избегать Данила, более того, стал мерить презрительным взглядом. Он отвечал тем же. Перестрелка шла недели две, пока Данил не крикнул через весь зал: «Считаешь меня грязным?». Выстрел попал метко. Я опешил, ретировался назад, и выбежал вон. О чём он думал? А если они — догадаются?
Я поспешил на вахту, чтобы взять первым ключ от раздевалки и переодеваться наедине, но не успел. Пока руки натягивали джинсы, дверь резко распахнулась — зашёл Данил. Он направился в противоположный угол, быстро стянул футболку, спортивные штаны... И я ощутил запах провокации. Стоило ли мне уйти? Да! Зачем нарываться на унижение. С другой стороны, разве может унизить человек, продающий тело за деньги? Правильно, не может. Остаться? Мысли беспорядочно кружились.
Интересно, он полностью разденется или ему «слабо». Мне ведь уже двадцать один год. Но детский интерес всё ещё жив? Стыд то какой.
Презрительно хмыкнул себе под нос, но с места не тронулся.
Он взглянул на меня:
— Если очень хочешь, для тебя за сто. Извини, парниш, но выглядишь ты никак.
Я рассмеялся, встал, и, застёгивая пояс, посмотрел на него. Моё раздражение и страх преобразовались в смелость:
— Таким не занимаюсь..., — на самом деле хотелось сказать «с такими».
— Не спорю, никто же не согласится. — Он сложил руки на груди. Глаза вдохновились увиденным, и предательски переключились. Пришлось сделать три волевых усилия, чтобы снова посмотреть в его лицо.
— Количество — не качество. — Сам того не понимая, я начал припираться, и совершенно забыл для чего это требовалось.
— Сколько у тебя было парней?
А действительно сколько? Мой мозг запнулся на цифре один, и вопросе: имею ли я право на эту цифру. Может быть, сказать два? Два — это же нормально. Или нет? Внутри включился математический модуль. Тебе двадцать один год. Ты нормальный парень. Сколько должно быть партнёров у нормального парня двадцати одного года, если он не шлюха? По одному на год? Или по одному на 2 года? А может быть по одному на 3 года. А с какого возраста считать? С 13 лет? С 15 лет или с 18-ти? «Предлагаю посчитать по одному парню на год» — сказал первый внутренний голос. «Нет, мало» — спорил второй: «Берите два, не прогадаете». «А сколько их у него, как думаете?» — спросил третий. «Нуу... минимум сто» — ответил первый. «Сто? А может быть двести?» — о господи. «Предлагаю назвать цифру десять. Она мне нравится» — сказала четвёртая личность. Я подумал, что десять звучит уверенно правдиво, но в последний момент вычел единицу, и ответил:
— Девять!
И кто-то из внутренних голосов потребовал спросить:
— А у тебя?
Он пожал плечами. С серьёзным лицом сказал:
— Восемь.
Мне показалось, я снова выглядел идиотом. Если он проститутка, тогда кто я такой? Впрочем, ответ лежал на поверхности: самый обычный врун.
В раздевалку зашёл студент филолог, заметив моё красное лицо, скорчил удивлённую мину и отправился в другой угол. Пока Данил переодевался, я молча сидел, завязывая, развязывая шнурки. Как только он вышел, рванул следом, чтобы нагнать у выхода.
— Учитывая твой большой опыт, даю пятидесяти процентную скидку, — ответил Данил, не поворачиваясь.
Шутил ли он или говорил серьёзно? На какой-то миг задумался — а стоит ли? Требовал пятьдесят? Пятьдесят чего? В валюте? На тот момент, это значило пол зарплаты моей матери — непозволительная роскошь. Я не смог бы даже одолжить таких денег. Однако, сама мысль о том, что всё продается, казалась противной. В моём идеальном мире, секс мог существовать только по любви. Высокой любви. Я глубоко презирал все другие формы, хотя задним умом и понимал, что вселенная не похожа на праздничный торт, где каждый способен отломить сладкий кусок для себя. Размышляя, произнёс вслух:
— Есть множество способов заработать.
— А ты работаешь?
— Нет.
— Сидишь на шее у родителей?
Я глянул ему в лицо. Верно, сижу:
— И что здесь такого?
Он ухмыльнулся:
— А что здесь такого? Ты презираешь меня за то, что, будучи с тобой одного возраста, живу сам, зарабатываю сам, готовлю себе сам, и нахожу время, чтобы учиться своей головой. Труд переводчика — не математика. Здесь нельзя «выехать» за счёт таланта. Только ежедневная пахва, и ежечасное усилие, либо время потеряно впустую. Я не могу позволить себе работу на полставки, на четверть ставки, на сколько угодно ставки. Мне никто не даёт денег даром.
— Ты бы мог учиться на заочном.
— Я не знаю, встречаются ли заочные математики, но вот заочных переводчиков не бывает. Запомни!
Я лихорадочно принялся искать аргументы. Не может быть так, чтобы у человека не было выхода. Мы же не живём в средние века. Бывает и хуже. Правда? Ведь бывает и хуже? Разве можно взять и пойти... Я вообразил как это «взять и пойти», и мне сделалось дурно.
— Ты хочешь сказать, что если бы не твоя ра... (работа?), занятие, то ты бы не учился здесь?
Он ехидно ответил с улыбкой:
— Если бы не моё «занятие», я бы учился в Москве. В худшем случае.
Эти слова были сказаны настолько жестко, горько, что я ощутил вину не только за необдуманный вопрос, но и за всё плохое, что бы ни случилось с ним до этого, и остальное, что бы ни случилось потом. Я поёжился, запустил подбородок за воротник куртки и промычал:
— А ты, правда?
— Правда.
— Но почему только восемь?
— Качество — не количество, — весело перефразировал он мою недавнюю реплику.
* * *
Никто так не радуется одноногому человеку — как другой одноногий. Знаете ли вы, насколько люди одинаковы? Насколько мизерны отличия, а индивидуальности призрачны. Сколько мы тратим сил, чтобы ощутить себя такими же, как все. Иногда самой незначительной незначительности достаточно, чтобы найти дом там, где вчера гулял ветер. Личные мелкие жертвы для кого-то могут стать всем.
В тот же день мы зарыли топор войны, и после библиотеки отправились вместе по вечернему городу. Было прохладно, но весело. Первый раз в жизни ко мне подкралось новое ощущение, пока едва заметное, и непонятное. Но что именно это за ощущение разобрать было сложно. Мне хотелось сказать что-то такое, чего никогда не говорил, и сделать что-то, чего прежде не делал.
Для меня не существовало проблем с коммуникацией, напротив, мог влиться в любую компанию, найти общий язык с любым человеком, но сейчас цепляло иное. Казалось, мы оба были заговорщиками, секретными агентами, скрывающие государственную тайну высшего порядка. Данил ходил в роскошном каракулевом пальто, как истинный франт, а если мысленно дорисовать цилиндр и трость, он вполне бы смог сойти за английского лорда-шпиона.
С того дня все его недостатки блистали намного ярче, чем достоинства, так как именно они рисовали портрет. Сочные цвета богато смотрелись, мерцали смелостью, даже неким налётом благородного удалого хамства. Это был мужчина, в котором можно было восхищаться мужественностью, удивляться женственностью, поражаться щедростью, и прощать невнимательность. А уж что касалось ума, Данил Анатольевич мог им блеснуть. Не находилось такой темы, такого предмета, когда бы Данил спасовал. Он умел съязвить остроумно даже там, где не понимал ничего, а постамент идиота оставался за вами.
Он именно из той редкой породы людей, на которых не хочешь быть похожим (ибо это бессмысленно), но хочешь находиться рядом. Вокруг него крутился мир, существа всех мастей, свойств, но когда мы впервые переступили порог дома — вдруг оказалось, что внутри Данил совершенно одинок.
Я спрашивал себя. Как это возможно? Чтобы человек, читающий Байрона, цитирующий Ницше, увлекательно рассказывающий гипотезы возникновения языков, не нашёл никого. У меня даже возникла идея Fix, найти в доме потайную дверь, за которой скрывалась любовь. А разве могло быть иначе?
Но была и другая идея Fix. Я думал о том, как Данила примется совращать. Не ясно: являлась ли эта мысль отрицательной или вызывала положительные эмоции. Отвращение или желание? Наверное, и то, и другое. С одной стороны я думал: «Совратит? Ха! Не дамся! А пусть попробует! Я не такой. Не шлюха! Выдержу!», с другой стороны, мои фантазии имели сладкое продолжение. В грёзах мечталось, будто откуда ни возьмись возникали деньги, Данил бросает свои грязные занятия, а потом, через полгода... хорошо, через месяц, у нас случается соитие по взаимной любви. Любви? Слишком невероятно. Хотя бы... по дружбе.
Не знаю, что грело душу больше: желание близости или же фантазия о бескорыстной помощи тому, кто сбился с пути. В этом скрывалось что-то... Что-то... безумно грандиозное и сакральное лично для меня. И, тем не менее, совершенно нереализуемое.
Когда он спросил: «Смотришь ли ты ночью на звёзды?», — это выглядел как кадр из фильма. Я отметил: «Вот оно! А теперь — приглашение домой». Он выразил удивление, что мой сон крепок, а взор не касается неба. Потом произнёс: «лишь сонный ум свободен от ума». Я возражал, будто мама не согласится, но он уверил, что здесь нет проблемы. Мы пришли вечером. Дом был недалеко от университета в частном секторе, среди аккуратно выстриженных газонов. Поднялись на второй этаж, и в прихожей Даня попросил:
— Вот телефон. Набирай свой номер. Сперва поговорю я.
У меня не было ни единого сомнения в том, что затея провалится. За двадцать один год я ни разу не был ни в клубе, ни в плохой компании. Но мать всё равно боялась, что я попаду куда-то не туда, или меня испортят (словно рыбу на рынке). Попытки проводить ночи вне дома, заканчивались скандалом. И потом не виделось никакого смысла в собраниях людей, которые только и делали то, что не делали ничего.
Я набрал номер на телефоне старинной формы и передал трубку хозяину квартиры:
— Алло? Это Ирина Владимировна? С вами говорит Данил Анатольевич. Прошу извинить меня, что лично незнакомы. Я друг вашего сына, Эдуарда. Он сейчас стоит рядом, и боится, вы не поверите, если он скажет, что хотел бы посмотреть ночное небо через телескоп. Поэтому я взял на себя неслыханную наглость позвонить вам, ибо уверен, что вы полностью доверяете сыну...
Я смотрел на него и воображал, словно дьявол стоял передо мной. Он принял благородную интонацию голоса, с нотками баса, и каждое слово, будто отчеканенный ауреус[1], пало из уст.
Когда телефонная трубка вернулась в мои руки, довольный голос матери сказал: «Я не знала, что у тебя такой интеллигентный друг!»
Данил спросил, вино какой страны предпочитаю я в это время суток. В голове всплыли сцены с изнасилованием, которым предшествовало опоение спиртным.
— Нет, но если хочешь, бери себе.
Данил пожал плечами:
— Не пейте сами ничего, пока друзей не схоронили, вино даётся в этом мире, чтоб передать от рук тепло.
Домашний телескоп находился на чердаке, где всё было устроено для ночных посиделок. Мы взяли с собой термос, чашки, печенье, и принялись смотреть на луну, сегодня она, как и обещал Данил, сияла целиком. Он не спешил сыпать словами, оставляя место для тишины, сосредоточенности, и любования туманностью Ориона.
— Знаешь Эд, на самом деле мне интересны не звёзды, а те, кто смотрит на них.
— Смотрит?
— Наблюдает, восхищается. Ведь в белых точках нет ничего интересного. Кто знает, существуют ли они на самом деле. Вдруг перед нами грандиозная иллюзия.
— Тогда зачем нам смотреть?
— Часть эксперимента. Ведь мы не можем исследовать, что происходит внутри других, но можем заглянуть вглубь себя. И благодаря тому, что люди почти не отличаются, наблюдения имеют реальный толк. Разве изучение людей не похоже на изучение звёзд?
В час ночи чай закончился, стало немного неуютно, и мы спустились в квартиру. Данил поинтересовался, хочу ли я спать, но разум был слишком перевозбуждён. Мне подумалось, что людей следует разделить на два типа: тех, кому закрывать рот необходимо, и тех, при которых рот следует закрыть самому. Данил принадлежал ко вторым, поэтому болтливый язык решил не напоминать о себе.
Ему удалось вернуть меня в реальность при помощи фразы:
— Возьми, переоденься. — Руки протягивали набор ночного белья.
«Совращает» — подумалось мне. На миг я впал в ступор, пытаясь понять, как нужно переодеваться: прямо здесь, или в туалете. Буду ли я выглядеть нормальным, если стыжусь, или я буду скорее выглядеть ненормальным, если не стыжусь. А я не стыжусь? Данил указал на уборную.
Кажется, я почувствовал себя немного уязвлённым, но сопротивляться смысла не имело.
Набор из штанов в английскую клеточку и хлопчатобумажной футболки оказался приятно лёгким. Телу было тепло, а присутствие одежды не ощущалось.
Данил также совершил переоблачение, после я спросил:
— Скажи, для чего это нужно?
— Ты же будешь спать.
— Надеюсь...
— В нём удобнее.
Наверное, Данил был прав.
Мы проговорили ещё часа два, но совращения так и не случилось. Впрочем, о нём вспоминалось всё меньше и меньше, и всё больше и больше восставало неизведанное чувство. Я плекал его, прислушивался к движению мысли, пытался разобрать, но тщетно. Утренние тучки вяло тянулись за мокрым окном. Данил приготовил пюре, достал из холодильника самолично засоленную селёдку, и небрежно нарезал овощей.
— Лук по этикету не положено. — Нарочито проговорил он.
— А что покладено?
— А вот, что покладено на русский язык, следует спросить вас, Эдуард.
Мне захотелось как-то пошутить, но центр остроумных шуток всё ещё спал, зато центр пошлых находился в полной боевой готовности:
— Что стоит, покладено быть не может.
Данил ехидно улыбнулся:
— Кто за дело пасть не готов, тому и восставать не стоит.
Я неожиданно ощутил укол обиды, но сдержался, боясь получить ещё, а потом услышал:
— Эд, извини... Просто лука дома не оказалось.
Данил виновато пожал плечами, сохраняя симпатичную ухмылку нетронутой, а я так и не понял, за что извинения: за отсутствие закуски или чего-то ещё.
День за днём мысли о совращении изменяли сознание. Поначалу эффект нравился: завышенная самооценка, чувство уверенности, бравада, грязный юмор. Но со временем оказалось, что эйфория, возбуждение бывают столь же утомительными, как и перекладывание мешков с цементом. И всё же отказаться не было сил. Каждую пятницу, иногда среду, четверг я делил вечера с Данилой Анатольевичем. И дело было не только в похотливых желаниях, сжигающих эго, но и незнакомое приятное чувство, которое усиливалось рядом с Данилом.
В первый раз полностью оно проявилось на рассвете, когда мы пошли встречать восход солнца. Данила заведомо уложил спать пораньше, а после разбудил в четыре утра. Мы двигались пешком.
Мёртвый город встречал нас, лишённый машин и людей. Он молчал, застывший в новой невиданной красоте. Ночные тени учтиво ниспадали на улицы, кланялись одиноким путникам, и провожали тени от нас. Мелкая дрожь вылетела из моего сердца. Рябью прошлась по рукам. Желания покинули разум, и я остался один на один с ощущением абсолютной вечности.
Данил шёл впереди, будто бы уводил за собой. Прощающийся взгляд изредка цеплялся за знакомые дома и улицы. Почти мистическое чувство переполняло душу, и кто-то внутри произнёс: «Теперь видишь? Ты всегда был здесь». Я обернулся: пустой город шагал в сумерках за спиной. «И ты всегда будешь», — добавил голос.
— Нам нужно поспешить, — торопил Данила.
Мы прошли зелёный парк под улыбку молодого месяца, вышли на середину моста. Терпеливая река медленно тянулась под холодным небом, которое готовилось принять солнце.
Данил стал прямо с краю, а я, боясь высоты, занял место за ним, отойдя на такое расстояние, чтобы не потерять восход.
Лёгкие перья облаков заполыхали на востоке. Солнце медленно просыпалось от забытия, протягивало тёплые ладони, гладило серый свод языками пламени. Вечный огонь восставал перед нами, заливая горизонт. Выделял очертания Данилы. Пожар обнял его, стирая контуры одежды. На миг его лицо обернулось, но контраст тьмы света не давал рассмотреть ничего, кроме кажущихся глаз, существовавших лишь в моём воображении. Они горели в такт восходящему солнцу, а игра теней от железных рёбер моста явила взору гигантские чёрные крылья Нечеловека.
Дрожь, начавшаяся со спины, захватила всё тело. Уставший разум тяжело вздохнул, отдал яд страха и сожаления синеве, и, выпуская из рук нити времени — сдался. Предо мной осталась лишь одна единая мысль. Я бережно поднял её, прижал к груди, и спросил: «Свободен?».
* * *
Постепенно май достиг финала. Близилась летняя сессия и Данил прекратил дозволенные речи, а мне требовалось время, чтобы взяться за ум. Но одиночество не длилось долго. После первой недели июня мать позвала к телефону, и знакомый голос проговорил:
— Доброго времени. Есть дело.
— Данил? То есть?
— Самое важное из всех дел в жизни.
— И какое?
— Улучшать твою душу.
Улучшать свою душу пришлось совсем не так, как я это воображал. Данил сунул мне билет на поезд, и объяснил полную инструкцию про то, что я должен был делать. Была ли у меня хоть какая-то возможность отказать? Нет! Хотя бы выразить своё мнение? Нет! Когда же мы пошли покупать рюкзак, палатку, и походные вещи, я окончательно осознал ужас и трагизм ситуации. Мы идём в горы? Да он сошёл с ума! Но в результате я не проронил ни единого слова. Я шёл послушно, словно арестант, судьба которого полностью предопределена.
Поезд отправлялся в 21:45. Мы заранее прибыли на вокзал, сегодня мой вид напоминал уставшего верблюда, обвешанного тюфяками. Стало жутко и страшно. Не из-за страха смерти?! Нет! Больше смерти, я боялся, что Данил обнаружит во мне несамостоятельность и беспомощность! С тяжёлым сердцем мы сели в вагон. Он вольготно, поместил вещи на вторых полках, закрыл двери: у нас было два нижних места в купе. Когда поезд тронулся, проводник попросил билеты, Данил передал два билета, а из кармана джинсов достал ещё пару:
— Проследите, пожалуйста, чтобы нас никто не беспокоил.
Проводник с налётом благоговения посмотрел сперва на Данила, а потом на меня, и удалился. Через десять минут вежливо постучался, поинтересовавшись, не желаем ли мы чая. Мой взгляд мало чем отличался от взгляда проводника:
— Ты выкупил всё?
— Да.
— А зачем?
Данил удивлённо посмотрел на меня так, словно я выпалил сущую глупость:
— Я думал, ты оценишь мои действия, направленные на создания комфорта для уютной беседы. Или уютного молчания.
Молчание продолжалось недолго. Как только принесли постельное бельё, и оно было расстелено, я дал себе возможность немного расслабиться. Закинув руки за голову, не думая ни о чём серьёзном, сказал:
— Деньги за поездку отдам... — помолчал и добавил, — за место надо мной тоже.
Даня улыбнулся.
— «Атдам» был добрый человек!
Я немного обиделся:
— Нет, серьёзно, летом заработаю.
— Ладно! Валяй! Скажи, всё что думаешь! Мало того, что Данил Анатольевич нашего Эдика заставляет лазать по горам, так ещё и летом работать. Подлец! Ну подлец!
— Но я, правда, не умею.
— Дык, мы и не собирались.
— А зачем нам палатка?
— Эд, думаешь, что голова нужна лишь для диплома? На минуточку, кто я в твоих глазах: зверь ли, кат ли проклятущий, чтобы заставлять университетского мальчика, который всего сутки назад откинулся с родительского дома, скакать аки ереванскому козлу сотни метров над уровнем моря!
— А зачем тогда палатка?
Данил фирменно закартавил:
— А палатка, уважаемая Надежда Константиновна, нужна нам как архиважное оружие в борьбе против пролетариата.
— Разве не капиталистов?
— Капиталисты Эдушка, обычно убирают за собой, а не срут там, где едят!
— Так значит, — сдерживая подкатывающий смех, шутил я, — Владимир Ильич не любит народ!
— Любит, Надежда! Очень любит! Особенно когда этот народ не высовывает хавальник из окопа!
— Это не по товарищески, Владимир! Вы читаете слишком много Поппера! Что же мы будем делать без народа?
— Надежда Константиновна, ну включите уже вашу фантазию: чем могут заниматься два образованнейших марксиста на фоне диких скал и ласкового моря!
Я вопросительно посмотрел на Даню? И он продолжил:
— Правильно, Надежда! Созданием новой мировой сверхидеологии! Вы будете моей путеводной звездой в пустыне хаоса и невежества.
Воображение рисовало палатку на фоне чернеющего моря, и бесконечно романтические посиделки за созданием новой сверхидеологии человечества. Это не только безмерно веселило меня, но и возбуждало. Скрывая детский стыд, я перевернулся на живот.
— Кстати, Эда, чтобы ты знал, Крупская оказалась весьма занятной. — Произнёс Даня серьёзным голосом. — Она не только помогала Ленину в подготовке революции, но и была верным другом. Хотя давалось ей это нелегко. Кстати готовить она не умела, как и ты. Хозяйка отвратная.
Помолчав, он добавил:
— Но всё ещё остаётся загадкой: любила ли она на самом деле. А если любила, то в чём суть этой любви.
— Что ты имеешь в виду?
— Ну как это бывает. Поехал Владимир «по Парижам». Нашёл себе женщину согласно потребностей, некая Арманд. Слышал про такую?
Я покачал головой.
— Надежда обо всём знала. Но, ни сцен ревности, ни скандалов. Не то, что о мести не помышляла, дружить пробовала с соперницей. Но самое интересное, фото Арманд всегда держала при себе.
— При себе? Зачем?
— Вот именно: для чего. Как должен думать человек, которому постоянно не везло: болезнь, отбирающая красоту, детей, муж, который более товарищ, нежели мужчина. Брак слова и ума, рыбёшки и миноги. Получиться ль хорошая уха?
Данил распорядился ложиться, но сон не давался, чудилось совращение. Лишь к утру я пал в объятия Морфея, и привиделось, будто едем в общем вагоне. Множество людей. Я сплю. Даня сидит и смотрит на меня, не обращая внимания на остальных, подошёл, и медленно склонившись, поцеловал прямо в губы. Ощущения прострелили голову навылет, теперь в ней зияло отверстие неестественного размера. До этого случая, я никогда не понимал смысла фразы: «променять жизнь на поцелуй», вдруг — осознал. Если бы дьявол предложил продать душу, без колебаний бы согласился. И всё же боязнь стать застигнутым победила — мы были не одни. Все глазели на нас. Я не видел, но знал это. Они смотрели, открыв рты, словно между нами совершалось подписание исторического договора о сожжении Содома. Единственное, что смог сделать: резко поднять голову — и сделал это в обоих снах. Точнее во сне, где спал, и в реальности.
К сожалению, реальность оказалась не менее реалистичной, чем сон. Бедная голова с размаху стукнулась о вторую полку.
— Что случилось? — Спросил Данил.
— Кошмар, — потирая лоб, ответил я, только начиная различать суть происходящего.
— Почему ты спишь в одежде и ещё укрылся? Тебе разве не жарко?
Я раздражённо глянул на него, но не ответил. Единственный вопрос, который теперь мучил меня: произошёл ли поцелуй в обеих реальностях?
Во время нашего путешествия по холмам и равнинам, главным для меня стало не показывать, что тяжело. И на удивление, задача оказалась выполнимой. Тело уставало, но усталость сменялась отдыхом, приятным обедом и теплом огня. Наконец мы добрались до небольшой горы с пологими склонами. Подъём пошёл легко, я почти не отставал от Данила, хотя его шаг был шире. Но когда мы принялись спускаться, где-то на середине, ноги ощутили незнакомую усталость, не желая следовать вперёд. Мысль скатиться кубарем вниз — напугала. Тело-предатель готовилось сдаться! От ужаса я схватился рукой за ближайший ствол дерева, чтобы хоть как-то перевести дух. Не может быть! Да как так! Всю жизнь, думал, подъём — самое тяжело дело, но спуск. Спуск оказался сущим адом. Постоянно находясь в неестественном положении, напряжённые ступни вопили, требовали отдыха. Я попытался спускаться боком — не выходит. Подумал: может скатиться? Но способ не выглядел безопасным, и, что самое важное для меня, значил позор. Я посмотрел вслед Даниле. Ну уж нет!
Пришлось стиснуть зубы и продолжать. Каждый шаг давался с трудом. Я принялся убеждать себя, что состояние не имело значения, важно лишь дойти. Несколько раз внутренняя паника почти овладевала сознанием, тогда я смотрел в спину Даниле, и пугал совесть стыдом. Несколько раз такой метод срабатывал.
Данила уже спустился и обернулся лицом. Мои ноги дрожали. Оставалось совсем чуть чуть, внутреннее ликование, желание упасть, страх, стыд разрывали сознание, а бешенный оскал освещал лицо. Казалось, цель вот-вот достигнута. Чтобы размять шею, я чуть приподнял подбородок, глаза встретились. Данила выглядел серьёзно, без тени иронии. Я постарался улыбнуться, но в тот же миг ноги подкосились, и тело тихо скатилось вниз.
Данил помог подняться. Мы шли в тишине. Когда наша скромная компания остановилась на перекус, он обратился:
— Эд, у меня личная просьба. Если тебе сложно — нельзя молчать.
Я поспешно проглотил кусок конины, Данил продолжал:
— Дело не в твоём статусе, крутости, или попытке что-то доказывать. Мы оба рискуем. Нас всего двое, не трое, не четверо. Если со мной что-то случится — что будешь делать?
Я пожал плечами:
— Ну, не брошу. — Хотя истинного ответа не знал.
Данил оттолкнул лёгким оскалом иронии:
— Если со мной сейчас что-то случится, а на завтра твои ноги будут болеть, или ты не сможешь нормально ходить, то, скорее всего, Надежда, вы станете тихо ползти аки улитка по склону Фудзи. А время, почти или всегда играет решающую роль.
Мои челюсти остановились. Смысл сказанного, наконец, дошёл до меня. Воображение нарисовало возможный исход, и я по-настоящему расстроился. Данил заметил это, доверительно обняв за плечи, сказал:
— Извини, Эда. Не бери в голову, у меня жуткая мания поучать людей.
Я инстинктивно улыбнулся ему, почувствовав, что на душе стало легче.
На следующий день прорицание Данилы сбылось: ноги отказывались подчиняться приказам. К счастью, к вечеру предыдущего дня мы успели добраться до склона, где взору открылась бескрайняя гладь моря. Мы поставили палатку, и я занялся самым важным делом в своей жизни: возлежанием.
Однако возлежание длилось не долго. После завтрака Даня потащил меня силком вниз.
— Плавать будешь?
— Я не умею.
— Тогда смотри.
— На что?
— Чтобы я не утонул.
— Хорошая логика. А если ты будешь тонуть, тогда?
— Тебе представится редкая возможность тонуть вместе со мной. Прельщает?
— Не уверен.
— А зря. Я искусно тону!
— Зато Надежда умирает последней!
Мы весело засмеялись, но мой смех скоро прекратился под натиском тупой боли.
— Ваше лицо, Эдуард, подобно человеку, который на спор пытается съесть ящик лимонов, пережевывая их один за другим.
— Думаете, Данил Анатольевич, их стоило глотать?
— Иной раз глотать мудрее, Надежда Константиновна.
После аккуратного спуска на дикий пляж, предстояло очередное испытание. Больные нежные ноги, ступили на острые, а то и горячие камни. Глаза обвинительно метнулись в сторону Данилы: «И это отдых?». Недалеко сидела пара девушек нашего возраста, загорая нагишом. Я сделал вид, будто не заметил, но на самом деле искоса посматривал на оголённые тела. «Что они себе позволяют!» — Говорил мой взгляд. Данил бесцеремонно бухнулся в воду и поплыл. Мне пришлось играть роль наблюдателя среди нудистов, периодически бросая в сторону осуждающие взгляды. Девушки кратко переглянулись и ушли. Очень хорошо. Одной проблемой меньше.
Данил аккуратно вылез из воды.
— Не хочешь попробовать?
Я помотал головой.
— Боишься?
Я пожал плечами.
— Давай попробуем. Или сильно боишься?
Сложно было понять, чего я боялся больше: выглядеть трусом, или бояться. Я молчал в надежде на то, что Данил отстанет, но он стоял над душой. Я зажмурил глаза, словно это помогло бы мне справиться с ситуацией, но нет. Солнце, камни, море — всё это существовало независимо от личного желания. В конце концов, воля сломалась. Будь что будет. Перед тем как пойти в воду, Данил остановился для серьёзного разговора:
— Ты мне доверяешь?
Я невольно улыбнулся, вспоминая, что эту фразу обычно говорят «нетрезвые люди»
— Да, доверяю.
— Владимир Надежду не кинет.
— Хорошо.
— Тебе нечего боятся. Повтори это несколько раз.
Я повторил мантру, однако эффект сработал иначе. Вместо того чтобы обрести уверенность, я начал боятся сильнее. Острые мокрые камни впились в ноги, Данил держал меня, чтобы я не завалился в воду раньше, чем мы выйдём на глубину.
— Эдуард, расслабьтесь! Выплюньте лимон хотя бы на три минуты!
Воды было по шею, я уверенно стоял на ногах, но расслабиться не получалось. Картина нервировала чрезвычайно. Одно дело, учить плавать маленьких детей! Но совсем другое — учить плавать двадцатилетнего балбеса. Нелепо! Тем не менее, деваться некуда. Моё положение описывалось элегантным словом: цугцванг. Если вернусь на берег — стану трусом. Если буду барахтаться в воде — подумают идиот. Впрочем, идиотом я уже был.
Мысленно вознёся благодарности девушкам, которые столь тактично оставили нас наедине, я пытался энергично махать руками подобно бабочке паралитичке, пока Данил поддерживал тушку за живот. Прогресс был неочевиден, но через некоторое время тело расслабилось, осознало, что бояться, в самом деле, нечего, и ощутило архимедову силу. Очередной вдох, мой нос ошибся, и зачерпнул воду, вместо воздуха. Ощутив, что не могу нормально дышать, я резко поднял подбородок, попытался нащупать ногами дно. Запутался в пространстве, словно в трёх соснах. Не получилось. Запаниковал. Данил схватил меня, что рыбёшку, а в ответ руки вцепились мертвой хваткой.
— Надежда, вы чего ж это надежду теряете! — Сказал он, когда я немного успокоился. — Предлагаю вам отпустить вождя пролетариата.
Руки не разжимались. Даня улыбнулся:
— Смотрю, вы меня схватили, Крупская, словно последнего мужчину на сцене политического бомонда. Правильно! Хвалю! Ой, как это мило. Давайте мы сделаем так. Я вас целую, а вы отпускаете. Хорошо?
Смех, а после и возбуждение заполнило моё тело, руки мигом подчинились мне, и я остановил губы Дани всего в нескольких сантиметрах. Остановил и сразу же пожалел, не способный сдержать смех, который постепенно утрачивал естественность, превращаясь в фарс. Постыдный полдень и не думал заканчиваться! О том, чтобы выйти из воды не могло быть никакой речи! Даня посмотрел на меня, немного раздражённым голосом сказал:
— Крупская! А ну немедленно выходите на берег, и не стройте из себя русалку!
Но я молчал. Даня хмыкнул, повернулся и ушёл.
Если бы кто-то вёл мою летопись, то сегодняшний день следовало бы назвать днём идиота. А по числу заработанных балов, я видимо сорвал джек-пот. Всякое желания продолжать отсутствовало. Однако как бы я не пытался избежать Данила или новых непонятных ситуаций, судьбу не обмануть. Вечером он подсел ко мне, и навязал разговор:
— Эд, мы можем нормально поговорить?
Душа почуяла неладное. Кивнул в ответ.
— Скажи, ты меня стесняешься?
Я затравленно посмотрел на Данила, он продолжил:
— Ты хочешь, чтобы я тебя обнял?
Я зажался ещё больше, и еле выдавил одно слово:
— Почти...
— Ясно. — Данил сделал паузу. — А сейчас?
— Снова почти...
— Хорошо, а почему почти?
— Потому что, когда..., — я пытался найти правильное слово.
— Когда Крупская просыпается, — помог Данил.
— Да, у меня полностью отключается мозг.
— Это заметно, — почти пошутил Даня, — она не только днём вас мучает, Эдуард, но и ночью спать не даёт. Вот шельма клятая.
— Угу, — полугрустно полувесело поддакнул я.
— А что вы думаете, если мы с Надеждой откроем почитать Капитал. Вы ведь уже читали Капитал?
Я помотал головой.
— Мне такое нельзя.
— Надежда Константиновна! Как же это, голубушка. Да святой да Капитал да Карла с Марксом да не прочитать?
— Просто, Володю не люблю. Он мне нравится, как человек. Харизматичный. Но как мужчина...
Я сам удивился, с какой неожиданной лёгкостью произнёс эту фразу. В противном случае, наверное, никогда не решился бы. Быть идиотом не столь страшно. Куда страшнее обидеть Даню, огорчить, или уж тем более оскорбить. Такого не было в моих планах.
— Тебе обязательно любить?
— Чтобы читать Капитал? — Я засмеялся так, словно заплакал.
— Чтобы заниматься Сексом.
— ...это грязно... — Выпалил я.
Данил более не мучил. Он легонько прошёлся рукой по моим волосам и оставил наедине с горькими мыслями и сожалением.
* * *
Оставшиеся дни Данил ни разу не касался серьёзных тем. Наши разговоры были ветрены, легки, и не призывали строгий ум к работе. Я научился держаться на воде, а Даня весело шутил: «Непотопляемая Надежда!».
После окончания летней сессии судьба разделила нас: он — в европейское турне, а я — за набор текстов. В личном календаре появился красный день: 24 августа. День возвращения Данила. Хотя приезд планировался двадцатого, Даня нуждался в передышке от «Парижов».
За время отсутствия возникло несколько метаморфоз. Я записался в бассейн, научился немного плавать, если так можно выразиться «занялся собой», а к концу лета скопил нужную сумму. Грустно и смешно. Данил принял деньги без возражений, но тут же одарил футболкой, тонким летним пиджаком и симпатичной шляпой трилби. С искренним удовольствием мы отметили встречу прогулкой, а вечером нас ожидала бутылочка трёхлетнего кагора.
Мысли о совращении не покидали с момента отъезда. Быть может именно поэтому бассейн давался тяжело. Я стеснялся. Стеснялся не только переодеваться (требовалось снимать нижнее бельё), но и стеснялся находиться в зале. Спрятаться за конспектом не представлялось возможным. Старался отводить глаза, но чем сильнее разум отталкивал постыдные думы, тем ярче они цвели. Часто грезилось, будто не нарочно слетевшие мокрые плавки притягивают взгляды случайных зевак. Казалось удивительным, что человек, стыдящийся открыть тело, был способен фантазировать о разоблачении.
По каким причинам в тот вечер случился разговор? Сложился ли он как результат размышлений во время совместного отдыха, или ключ был в поведении. Жаль, что у человека нет возможности увидеть себя со стороны. Может, после бокала взгляд стал слишком откровенен? Внутри творилось неладное: и хорошее, и плохое.
Хорошее таилось в предвкушении нежности, а плохое — в необходимости использования. Каким бы греховным, надменным не казался обществу Данил, в первую очередь он виделся человеком несчастным, который вынужден продавать себя, хоть и задорого, но против совести. Чтобы спать вместе, одного согласия недостаточно, нужна ответственность за судьбу того, с кем делишь постель. Именно так я это понимал. Но возможности не находил. Не хватало денег. Жильё Данилу предоставлял кто-то из «любовников», жизни в общежитии он не допускал. Большая часть времени уходила на обучение, а это значит, мне следовало отыскать способ зарабатывать самостоятельно. Но я не знал, где и как собрать нужную сумму.
И когда Данил задал вопрос о том, почему я считаю секс грязным, он получил полный ответ, который заставил крепко задуматься.
— Значит, по-твоему, секс грязный из-за использования?
— Ну..., как-то так.
— И вот, если ты будешь отвечать за меня, делить невзгоды, то тогда секс не будет грязным?
Я пожал плечами:
— Наверное.
— Эд, скажи, а вот..., то, что мы с тобой разговариваем, гуляем, обмениваемся мыслями. Я трачу твоё время, а ты моё — это использование?
— Использование. Но обоюдное.
— То есть, если использование обоюдное — оно не грязное?
— Думаю да.
— А, для того, чтобы с тобой гулять, общаться, обязательно ли любить?
Я задумался, и понял, что меня поймали на удочку:
— Думаю нет.
— А брать на себя ответственность за твою судьбу?
— Нет. — Я расстроился. — Это другое!
— Разве во время соития люди не используют друг друга, чтобы стать счастливыми?
— Это другое!
— В чём?
Я разозлился, и, не подумав ни секунды, выпалил:
— Потому что не все могут так, налево и направо, как ты!
Сожаление о подлых словах проявилось, как только язык осмелился воплотить их. Данил помрачнел. Это конец. Только что я сделал самую главную ошибку в своей жизни: ударил по лицу человека, который (в моём представлении) достоин жить счастливо. Тело онемело: обоюдоострый взгляд пересёк комнату. Данил вернулся за стол и отпил вина.
— Ладно — произнёс он. Не поднимая взгляда, сложил руки, и принялся неторопливо рассказывать.
* * *
Жизнь казалась переполненной везением и удачей, несмотря на то, что мать умерла, лишь исполнилось пять лет. Я родился здоровым жизнерадостным ребёнком. Почти никогда не болел. Море любви с избытком проливалось из семейной чаши. Той редкой родительской любви, что так не хватает многим. После смерти матери, отец превратился в живого бога. Добрый в строгости, любящий, умный и мудрый мужчина, обладающий неземной холодной красотой. Для него я был не просто сыном. Черты ребёнка напоминали ему о жене. Отец никогда не бил меня, не было недостатка нежности или интереса со стороны взрослого. Его одобрение или порицание значили более розг. Он не оберегал от людей, но берёг от воображаемых страхов, прижимая ночью к груди. Он говорил, что я свободен в ответственности, но бесправен в лени. Что каждый ограничен внешне, зато всемогущ в себе. Он создал из меня человека, которым мог гордиться родитель, и которым гордился бы я. Моё счастье — было счастьем его.
Отец являлся лицом духовным, поэтому согласно высокому статусу, учился я в специальной гимназии. Случайные дети туда не попадали. Злость, нищета, и грязь мира вне стен храмов следила за мной, но дотянуться не могла. Там я обрёл своего первого друга. Костик, светлый мальчик, блондин, тихий взглядом. В пятилетнем возрасте его укусила собака, о чём напоминал шрам на правой ноге, и возможно по этой причине он казался немного забитым. Но потребность в доброте, тянувшаяся из его души — прельщала. Вскоре мы сдружились.
Отец был рад, что кроме знакомых, я отыскал человека, о котором мог заботиться. Он говорил мне, что каждый обязан научиться ответственности, так же как математике или чтению, а я не понимал, что в этом особого. Быть ответственным с Костей казалось легко. Он всегда слушался, смотрел взглядом, напоминающим мой собственный, когда я смотрел на отца, и никогда не спорил. Восхищённый взор обязывал наполнять его жизнь красками. Из-за Костика я начал делать глупости, шалить. Мне хотелось вызвать улыбку, не ту лёгкую застенчивую улыбку, которой он прикрывал свои несчастья, а истинную. Иногда это удавалось.
А ещё меня беспокоило отношение Кости ко мне. Конечно, мне нравилось по-собачьи преданное поведение, но в этом было что-то жутко удручающее, а в щенячьей радости таилось нечто неправильное.
Я решил поговорить с отцом, который выслушал и ответил:
— Он стремится заполнить душевную пустоту тобой.
— Это хорошо?
— Не совсем. Но ты способен убедить его, что он дорог. Когда человек понимает, что кому-то небезразличен, он начинает ценить свою жизнь, и учиться ценить жизни других.
— А пустота уйдёт?
— Она будет наполнена желанием служить людям.
С тех пор я старался воплотить идею отца. Я говорил Косте, как рад видеть, старался обратить внимание на личные успехи, радовался мелочам. Похоже, в самом деле, мои действия возымели влияние. Костик начал чувствовать себя увереннее. Мы всё больше проводили время вместе, он часто бывал у меня дома. Постепенно щенячий взгляд испарился, а сущность Кости стала проявлять характер.
Однажды мы сидели на ковре, скрестив ноги, собирая пазл, Костик признался:
— Даниил, у тебя лучший папа.
— Я знаю. — Ответил я, не скрывая удовлетворения.
— Я думал, что он окажется строгим, но он даже не запрещает тебе смотреть телевизор.
— Телевизор?! Глупости. Бог не запрещает смотреть телевизор, если только это не вредно.
— А мне не разрешают. — Добавил Костик серьёзно.
— Разве родители не любят тебя?
Костик осунулся, а я ощутил укол совести. Разве сказано что-то плохое?
— Конечно, они меня любят... наверное.
— Костян, почему, наверное, они тебя, безусловно, любят. Папа говорит, что все люди любят друг друга, но родители любят особенно сильно.
— Все люди любят друг друга?
— Ты сомневаешься? Я же люблю!
— Ты это другое дело. Другие не любят.
— Они тебя тоже любят, просто не догадываются.
Костик молчал. Я смотрел с ощущением, будто каждое слово творило что-то неладное.
— Даниил, а может мои родители, тоже не догадываются?
— Как это так? — Удивлённо воскликнул я.
Костик чуть повернулся, приподнял футболку, и показал тёмно-бордовые, местами синие полосы, разрывающие белую спину. Злость, страх и негодование, наконец, нашли путь к детскому сердцу. Ужас охватил душу. Я бросился вон из комнаты поскорее к отцу. Обнял и зарыдал.
— Их надо лишить родительских прав! — Впервые в жизни я кричал по-настоящему.
— Ты сможешь заменить ему родителей?
— Это не родители, отец!
— Право у них, и только они несут ответственность за дитя.
— Не существует такого права, чтобы человек владел человеком! Люди — не вещи! Дети — это не вещи!
— Всё верно, Даниил.
Отец обнял меня, сбил рукой слёзы, и пообещал поговорить. Костик, не ожидавший такой реакции, глянув, словно на пришельца с другой планеты, спросил:
— Ты, правда, плакал?
— Да, — немного стыдясь, сказал я.
— Почему?
— Потому что — больно.
— Ты же говорил, что тебя никогда не били, откуда знаешь?
Ответить нечего.
С тех пор я просил Костика не скрывать, если отец бил. Но после разговора папы, ситуация улучшилась. Папа мог. Я знал, что он умел убеждать людей, ибо его устами говорил Бог. И я верил, что если родители Кости верили в Бога, они не посмели бы ослушаться.
Летом был запланирован лагерь с канадцами, чтобы изучать английский язык, общаться, здорово проводить время. Отец и тут угадал желания: за свой счёт отправил Костика вместе со мной. В то лето он выглядел счастливым как никогда, и это счастье невольно передалось мне. А ещё случилось что-то странное. В какой-то момент Костя стал красивым. Но не красивым, как небо или цветы. Он стал красивым по-особенному. Больше всего, когда улыбался. Хотелось его обнять, прижать и... слушать неровное хрупкое дыхание. Эта фантазия овладела мною настолько, что однажды пробравшись за ограждение, и бегая по полю высоких сорных трав, я нечаянно или намеренно ухватился за его талию и повалил на себя. Он поинтересовался: «не ударился», но я не мог вымолвить, ни единого слова.
Наша дружба развенчалась, любовь всё ещё была, но стала иной. Я знал об этом грехе, и все последующие дни старался свести контакт к минимуму, скрывая печаль от других и особенно от него. Нужно было увидеться с отцом. Отец бы помог. Он бы справился. Он бы убедил. Ведь его устами говорил сам Бог:
— Тебе всего четырнадцать, не спеши. Богу нечем упрекнуть тебя.
— Я тоже думаю, что нечем. Но это не ошибка. Я понял, что всегда был таким. Я рассматривал...
— Хватит. — Он поднял руку, заставляя меня замолчать.
— Сделай меня нормальным, пожалуйста. — Попросил я жалобным голосом. — Ведь твоими устами говорит сам Бог.
Отец почернел темнее тучи:
— Бог? Если слова исходят от сердца — они от Бога. — Он помолчал и добавил — Твоё сердце говорит, что ты грешен?
Я подумал немного, и помотал головой.
— Скажи это вслух.
— Нет, я не грешен.
— Почему?
— Потому что, любовь — не может быть грехом. Да?
— Потому что Любовь — это Бог.
— Отчего тогда так стыдно?
— Страх, стыд, невежество. У Сатаны много лиц, и все они отвратительны.
— Но в Библии написано...
— Не всякая истина — человеку. Ты сам — буква в книге Бытия. Кто лучше тебя способен понять предназначение? Невежды, не замечающие солнца в ясный день?
Мой взгляд блуждал в смятении.
— Тогда что мне делать?
— Любить и быть любимым. Место любви способна занять лишь ненависть. А ненависть —страшнее смерти. Хочешь отдаться ей?
— Нет.
— Тогда делай, что должен. Но сперва полюби себя. Полюби таким, каким есть.
— Потому что Бог – это любовь...
— Потому что Любовь — это Бог.
Мы обнялись.
Краткое счастье проникло в душу, но не спокойствие. В голове шумел ураган. Как же я теперь с Костей? Ничего. Обойдётся. Главное — что люблю. Остальное — обойдётся. На следующий день Костик настиг меня в коридоре, побеспокоился:
— У тебя что-то случилось? Ты был совсем не свой.
— По тебе соскучился. — Улыбнулся ему в ответ и попал в крепкие объятия.
На миг страхи покинули меня. Я осознал — нет смысла желать большего. И не желал. Всё вернулось на круги своя. Мы взрослели. Я стал счастлив настолько, насколько вообще был способен. Любовь творила чудные вещи. Иногда странные шалости, иногда лёгкие глупости. Что бы мы ни сказали друг другу: то ли слово ласковое, то ли грубое — всё казалось нежностью. Иногда смеялся над ним, нелепо подшучивал над робостью, в спальне закидал подушками. Он выбрался из плена, в пухе и перьях выглядел настолько мило, что хотелось разрыдаться. Вдруг Костик схватил за руку, притянул к себе, и поцеловал в щёчку. Лицо раскраснелось. Голова закружилась. Руки дрожали. Я забыл все свои условности, заглянул глазами в глаза, и поцеловал в самые губы. Почему я не сошёл с ума? Почему?
Костик не сопротивлялся. Сперва он лишь ждал, но после присоединился на равных. На его лице не было и тени стыда, лишь лёгкое возбуждение: краснеющие уши симпатично смотрели наружу. Мы оба тяжело дышали, словно ночь напролёт разгружали вагоны. Значит, Костик тоже? Такой же? Он таинственно улыбнулся и залился смехом. Я последовал его примеру.
Ночь прошла без сна. Мечты приходили одна за другой. Грёзы о Косте, об общем счастье, о любви. Хорошее знание языка и образование дарили надежду уехать. Не было сомнений — отец поддержит. Он всегда поддерживал во всём. Требовалось лишь поговорить с Костей. Тело дрожало. Грёзы будущего ослепляли. Ещё год и скоро совершеннолетие. Скоро свершится судьба.
После школы мы пошли с Костей домой. Отца не было. Я накрыл стол, разогрел еду, и после обедни приготовился сказать то, что должен. Грудь сдавливал невидимый груз.
— Костя. Я хочу...
Тело снова дрожало. Он озабочено посмотрел на меня:
— Что-то случилось?
— Я тебя люблю! — Выстрелил я, голова закружилась, руки ухватились за стол, пытаясь удержать от падения.
Костик непонятливо посмотрел.
— Даниил?
Наверное, он хотел сказать: «Что случилось?» или «Я тоже тебя люблю, как брата». Ответ читался в глазах, но Костя ничего не сказал. Его лицо обезобразилось. Покрылось ужасом. Он подошёл ближе и обнял.
— Только не волнуйся. Я буду молиться за тебя. Ты вылечишься! Обязательно. Я тебя не брошу. Господи помоги нам!
Костик заплакал. Великолепное будущее превратилось в ад. Я ощутил безумную жажду смерти. Боже. Почему ты не убил меня? Почему?! Зачем?
Весь вечер Костя рассказывал мне о грехе мужеложства. Я пытался спорить, приводил доводы отца, но, то ли мои слова не были сказаны от сердца, то ли не достигали сердца Кости — он не понимал их. Хотя говорил так же кротко и так же ласково как всегда, однако его голос разрывал душу, вызывал желание убежать. Я спросил: «зачем поцеловал?», на что Костя ответил, что согрешил, но грех его в ином. Ему просто хотелось ощутить поцелуй, ведь он ни разу ещё не целовал в губы, а скоро восемнадцать.
Прошлое исчезло. Потеряло значение. Я упал, протягивая руки вперёд, нащупывая остатки недавнего пути, разлетающегося в клочья. Вдалеке маячила тупая неугасаемая боль. Перед моим взором предстала толпа молящихся. Кто были эти люди, возносящие молитвы? Чего они желали? Может быть того же, что и я. Возможности мечтать о счастье, или хотя бы о призрачной надежде, искали утешение в жизни после смерти, но не находили. Значит, вот как они живут. Без будущего и прошлого. Как они живут?!!! Как??? Я бы не смог. Не справился. Не протянул бы ни дня, ни минуты.
Те люди, каждый день просящие милостыню, мечтающие о счастье, наверное, всемогущи. Всё время хранящие в душах пустоту бытия. Переполненные страданием, разрываемые ничем, они живут, простирая руки к небесам с единственной надеждой. О чём просят они? Куда стучат? Откуда столько терпения? Столько силы! Силы хранить пустоту! Самое тяжкое бремя! Не для смертных. Оно не для смертных.
К отцу нельзя. Разве достойно демонстрировать ничтожество тому, кто любит. Предать единственного близкого человека — нет прав. Но я всё ещё люблю. Значит, Бог не покинул меня. Руки обняли подушку, под утро, переполненные болью, сомкнулись глаза. Сердце уснуло, но разум бодрствовал.
* * *
Весь день я провёл дома, не выходя из спальни. Отец не тревожил даже просьбами о еде. А на следующее утро постучал. Дверь отворилась, за спиной стоял Костя. Папа вошёл:
— Если не хочешь видеть его, скажи. Если хочешь, выслушай.
Терять было нечего, я кивнул. Костя зашёл внутрь, отец закрыл за собой. Костик простоял некоторое время, разглядывая комнату, словно первый раз был здесь. Он старался не смотреть в глаза, искал что-то, чего и сам не знал. Потом сказал, что ошибся. Что на самом деле наши чувства равны. Но они — грех, и поэтому ему страшно. Потом сказал, что последует за мной в ад, я открыл рот от удивления. Под его глазами виднелись тёмные круги. Значит, Костя тоже не спал. Надежда вновь сияла на горизонте. Грусть и радость перевернулись вверх головой. Я кинулся к нему обнять сильнее, дабы вспомнить утраченное.
Время ускорилось в такт чувствам, и вместе с тем, кажется, замедлилось. Месяц прошёл превосходно. Сезон поцелуев сменился сезоном ласк. Костик был счастлив, когда я целовал его, но грустным после. Возможно из-за проблем в семье. Ведь он знал, что мы должны были уехать, и, вероятно, переживал за родителей. Я убедил его, что потом у нас будет возможность вернуться, когда выучимся. Мой отец подобрал несколько университетов, и готовил необходимые документы.
Всё складывалось как нельзя гладко. На майские праздники мы решили отправиться на природу. Костик слегка грустил. Я решил не спрашивать его о семейных проблемах, лишний раз не теребить душу. Старался передать радость и тепло в избытке. Ночью его печали неожиданно исчезли, и сменились нежностью. Мы бегали, дурачились, целовались, как это обычно делают влюбленные. В полночь страсть объяла нас, свершился первый коитус. Казалось всё прошло идеально. Мы долго лежали молча, пока в полной темноте от Костика не послышалось: «Ненавижу...».
Я отпрянул, словно от змеи. Вскочил, зажёг свет, и посмотрел Косте в глаза. Они были пусты.
— Что случилось?
Он молчал, поэтому мой вопрос повторился:
— Что случилось? Кого ты ненавидишь? Что-то с отцом?
Когда я упомянул про отца, глаза Кости оживились и зыркнули на меня:
— Ты Дьявол. Ненавижу.
Я схватил Костю обеими руками и спросил:
— Костя, что случилось? Тебе было больно?
— Ужасно. Я не хотел.
— Господи..., — у меня не было слов. — Почему ты не сказал?
— Я желал спасти тебя.
— Спасти?! От чего? Костя?
— От зла.
— От какого зла?
Костик сел на кровать и посмотрел сквозь меня:
— Мы договорились с твоим отцом.
— О чём? О чём вы говорили?
— В тебе Дьявол. Даже мать не выдержала его сущности. Он сказал, если я полюблю тебя, то можно спасти. Я очень хотел. Но кажется, пропал сам. Злость и ненависть кричат во мне. Раньше они говорили только, когда отец избивал. Мне хотелось убить его, убить свою мать, спалить дом. Потом я встретил тебя. Ангела во плоти. Совершенного. В том не было сомнений, ведь твой отец — святой. Я подумал — повезло. Ты дал уверенности, научил жить. Защитил. Всему, что у меня есть — я обязан тебе. Помнишь, когда мы дрались подушками. Ты был похож на ребёнка. Такой замечательный, чистый и невинный. Я захотел поцеловать тебя. А потом, когда ты прильнул к губам, подумал, что так целуют ангелы. Но после... Мне говорили, что Дьявол способен принимать любой облик. И всё же я любил тебя сильнее всего на свете и не мог сдаться. Я не сдался. Я пошёл к твоему отцу. Рассказал ему. Он уговорил, убедил, что лишь мне дано спасти твою душу.
Костя посмотрел в глаза, и добавил:
— Я проиграл. Прости... Даниил, прости...
Что мне было делать? Кричать? Броситься в реку? Нет. Я не мог так поступить. Требовалось поговорить с отцом. Я не знал, чьё предательство страшнее: любимого или отца. Кто из них решил поиграть со мной. Сперва во всём винил Костю. Как он мог притворяться, что любит. Потом ненависть перешла на отца. Конечно, во всём виноват только он. Если бы не он, Костик не решился бы. Я хорошо знал, насколько сильной была отцовская способность убеждать. Как чисто и красиво он складывал слова. Я думал... его устами говорит Бог. Но Бог ли? Что если я ошибался?
Отец сидел за столом, и разбирал бумаги. Он протянул документы для университета. Конечно, в них записано лишь моё имя.
— Значит, я поеду один?
— Один — подтвердил отец.
Я едко ответил:
— Мне всё известно. Твоя ложь. Твоё зло.
Отец спокойно поднял глаза:
— Спешишь осудить? Знаешь — тем лучше.
— Ты заставил его любить. Ты заставил подчиниться. Ты сотворил раба!
— Чушь! — Отец грозно блеснул глазами, — Раб был в нём всегда! Я лишь использовал его, чтобы спасти тебя.
— Спасти? Ты тоже веришь, что можно спасти? От этого?
— Нет. Не от этого. От стыда. От изгнания. Он пришёл ко мне в тот день, когда ты заперся в комнате и сказал, что мой сын — Сатана. Чистое зло. Так он ответил на твою доброту. Так он ответил на твоё внимание. Такова его благодарность! Он потребовал излечить тебя, сказал, что расскажет о беде всем. Что будет молить Господа об избавлении. Ты думал, он тебе друг, а он лишь мечтал возвыситься за чужой счёт. Прости, что не оградил от дураков, их количество несметно. Думаешь, я бы отдал единственного сына?
Отец страшно улыбнулся, почти оскалился:
— Отдал бы единственное, что напоминает о ней?
— Ты мог бы его разубедить!
— Не мог. Я знаю, не мог. Даже, если бы сам Иисус спустился с небес, и сказал ему то, что я сказал тебе. Они бы снова распяли его. Потом может... передумали. Но сначала распяли. Люди всегда делают так.
Отец замолчал на миг:
— Я был готов задушить этого белобрысого идиота руками. Но разум взял верх. И я сказал ему то, что больше всего на свете он желал услышать. Сказал ему, что ты — Сатана. Что лишь любовь может спасти. И что он — тот единственный, способный сотворить чудо руками Господа. Ты бы видел его лицо. Как же он был счастлив, что станет твоим Спасителем.
— Ты солгал! — Закричал я.
Отец встал из-за стола, подошёл поближе, и я вспомнил, насколько сильными бывают его руки:
— Даниил. Очнись! Ложь — это суть того, чего больше жизни и света жаждут они! Она необходима им. Нужна им. Неужели ты думал, что хоть одно слово в святых книгах от истины?
— Отец?
— Не смотри на меня так! Я не безумец! Напротив. Мой разум чист.
— Ты не веришь, что писание от Бога?
— Конечно, писание от Бога. Нет сомнений. Бог мудр. Он понял: люди глупы и безумны. Страх мыслить лишает счастья. Он дал нам книгу, дабы Ложью унять безумие, ибо нет других путей и возможностей. Пойми. Библия от Бога, но не для тех, кто хочет приблизиться к нему!
* * *
— Что было дальше? — Данил разлил остатки кагора. — Ничего особого. Милый Костик подкараулил с ножом. Знаешь, я боялся, что он совершит суицид. Клял себя. А в результате, оказалось, что совершенно не разбираюсь в людях. Исцеление от глупой любви пришло ко мне в тот самый момент, когда увидел в глазах желание убить. Он был по-настоящему серьёзен. Ни тени жалости, ни тени сомнения. Но рождённый мазать, попасть не может!
— Думаешь, он был натуралом?
— Костик? Скорее всего. До тех пор пока я лобызал его игрушку, он был милостив, ещё бы. — Данил злостно ухмыльнулся. — Но стоило войти сзади, и всё его дермо вылезло наружу.
Я нервно улыбнулся.
— Знаешь, Эд. Секс — замечательное средство для прочистки мозгов...
— А потом? Почему ты не уехал за границу?
— Потому что дурак. — Данил посмотрел в потолок. — Сбежал из больницы. Три месяца пожил с бомжами, благо лето. Научился стрелять в голубей. А потом у фонтана встретил Кирилла. Мы часто тусовались там. Кирилл спросил у меня, не боюсь ли я того, что он бандит, а я ответил: не боится ли он, что я сын священника. Мы рассмеялись.
— Ты его любил?
— Нет, Слава богу, нет. Он... наверное. Жаль, конечно, когда узнал, что его закопали в лесу, но я не страдал. Нужно было беспокоиться о себе. Он сыграл свою роль, и эта роль была куда лучше, чем у Костика. Приютил, обогрел, дал возможность поступить в институт. Снова ощутить себя человеком, ощутить вкус жизни. Забыть глупости. И я ему очень благодарен. Он использовал меня — я воспользовался им. Никто из нас не обманул друг друга.
Данил помолчал, а потом добавил:
— Знаешь Эд. От меня ничего не осталось. Ни отца, ни веры. А когда я увидел тебя в бассейне, вспомнил о прошлом.
— Я не верю в Бога.
— В каком-то смысле... нет, в каком-то — да. Просто твой бог — другой.
После той ночи Даня предстал в ином свете. Мне показалось, что я со всеми проблемами, сомнениями, задачами не прожил и малой части его бед. Откуда в нас такая потребность судить? Неужто, чтобы избежать суда над собой.
Через три дня я нарисовался на пороге с бутылкой кагора:
— У тебя же не осталось денег.
— Я занял — от неожиданности прохрипел я.
— А зачем вино? — Даня подозрительно посмотрел на меня.
Ответом была лишь глупая улыбка.
Я попросил его об одолжении. Он улыбнулся и ответил: «Нет!»
— Если хочешь, чтобы я избавил тебя от дерма в голове, совращать будешь сам.
— Но...
— Либо так! Либо никак!
— У меня не получится, нет опыта. Ты же знаешь.
— А как же девять парней?!
Он улыбнулся и добавил:
— Это всё пыль! Я буду молча наблюдать — остальное за тобой. Мне не страшно. Только, чур, без укусов. Я полностью доверяю тебе. Секс — не вопрос любви, Эд. Вопрос доверия. Реши, наконец, веришь ли ты в меня или в мораль фальшивых людишек.
Я поставил бутылку на стол и неуверенно посмотрел на Даню.
— А с чего нужно начинать?
— Вообрази, что делаешь это для себя. Что я это ты. И не задавай никаких вопросов.
Мы стояли молча, очень долго до тех пор, пока у Дани не кончилось терпение, и он первый поцеловал в губы. Этого хватило, чтобы перенять инициативу на себя. Больше я не задавал глупых вопросов.
Неизведанная наглая сила, проснувшаяся в теле, повалила Данилу на стол. Он вовсе не сопротивлялся. Напротив — всем видом давал понять: спешить некуда. Мой пир начался. Руки медленно стягивали одежду, а где-то на краю сознания вспомнилась фраза: «Не играйся с едой». Ещё бы! Именно это и требовалось! Игра! Ощущение абсолютной власти растеклось по молодым венам. Ровно с той же силой, с какой я овладевал Данилом, он в той же мере овладевал мной. Поцелуи нежно обжигали кожу. Шаг за шагом я аккуратно спускался в самое сердце ада, следуя к тайному тёмному кругу. Туда, где в цепях морали дремлет свирепый зверь по имени «Стыд». Уняв лёд священным огнём, пестуя, целуя губами, наконец, дошёл к нему, чтобы навсегда обрести свободу.
* * *
Наутро я вольготно расхаживал в костюме Адама.
— Смотри не перецепись, — шутил Данил.
Я улыбнулся пошлой шутке и принялся разогревать завтрак.
Поставив рагу на медленный огонь, вернулся в спальню.
— А тебе не кажется, что ты ненормальный? — Сказал он.
— В каком смысле?
— В прямом, я не создан для перегрузок!
— Значит ты не космонавт.
— И тебе меня совсем не жаль?
— Нет! — Ответил я, и прильнул к шее.
Наконец мне стало ясным, что за новое ощущение посещало у Дани. Теперь я называл его только так. Не Данил. Не Даниил, как отец. А Даня.
Я уверенно решил взять на себя обязанности повара, избавив его от дополнительных хлопот. Если ему было что-то надо, я требовал, чтобы он просил меня. Всё это было забавным, странным. Даня лишь смеялся. В какой-то момент почудилось, что налёт хамства и цинизма куда-то испарился из него, а на поверхности показался нежный милый ребёнок.
Это новое чувство люди называют самостоятельностью, кто-то — зрелостью, а кто-то — «взрослением». Наверное, в самом деле, я становился взрослым, перестал пугать вопрос денег, будущего, проблем. У меня был Даня, и хотя я не ощущал чувства истинной любви, в личном идеальном мире Даня был удостоен счастья. И я решил, что расшибусь в лепёшку, но сделаю всё, чтобы достичь этого.
Люблю, не люблю. Какая разница. Даня бросит глупости, выучится. Потом найдёт себе достойного парня. Конечно, это будет парень, лучший, чем я. Посмотрел на себя в зеркало. Хотя конечно, не то, что я плох. Может быть, даже и не плох. Но Даня заслуживает лучшего. Я добавил подсолнечного масла, размешивая блинное тесто.
Даня зашёл на кухню:
— Ты что в моём доме вообще трусы потерял?
Я пожал плечами:
— У тебя атмосфера накалённая, вот они и аннигилируются.
— Судя по всему накаленное лишь одно место... — Даня глянул на сковороду. — Надень фартук балбес. Всю красоту испортишь!
* * *
Зимой посчастливилось устроиться на полставки в государственную организацию. «Дай, подай, иди, не мешай» — девиз рабочего дня. Главное на новой работе — доступ к компьютеру (которого до сих пор не было) и интернету. Ближе к зимней сессии, я решил серьёзно поговорить с Даней о будущем. Даня не противился моим начинаниям, он резонно заметил, что, в общем, я прав, и что всему своё время. Он сказал: «Есть две новости, одна хорошая, а другая не очень». Плохая новость заключалась в том, что Новый Год он проведёт вдали от меня. Хорошая — в том, что эта поездка могла принести «прибыльные инвестиции». Признаюсь честно, в чём-то мне стало обидно. Выходило так, словно Даня сам решил собственные проблемы. Но все же, я был за него рад. Если последняя, то хорошо.
Однако стоило Дане улететь в тёплые страны, как мне подумалось: «Конец?». В самом деле. Зачем я нужен? Чтобы ныть? Каждый раз строить из себя милого наивного мальчика? Слушать рассказы об английском и Крупской? Допустим секс, возможно хороший, но разве дело в нём? Я пытался, но не мог придумать ни одного весомого основания, почему Данил должен был остаться именно со мной. Потому что мне выгодно?
Даня вернулся к началу сессии. Довольный, сияя аурой победителя. По нему было видно, что всё прошло именно так как надо. Я мысленно простился.
— Эд, ты чего такой грустный?
— Я? Нет.
— Точно? Держи.
Даня протянул мне чёрный квадрат, который оказался ноутбуком.
— Даня, это — не подарок, это — перебор. Я не могу взять.
— Кто-то тут недавно собирался зарабатывать на двоих. Или ты уже отказываешься?
Я удивлённо посмотрел на него.
— Успокойтесь Надежда. Всё для революции!
Даня вольготно расселся в кресле:
— Крепись, Эд! Придётся заниматься английским.
— Уже?
— Окончишь институт и уедем.
— Навсегда?
Даня улыбнулся:
— Навсегда, Эдуард, уезжают лишь в одно место.
Мне хотелось задать вопрос: «Почему я?», но вместо этого произнёс:
— Дань, ты ведь понимаешь, что я тебя не люблю?
Данил проницательно глянул на меня:
— Понимаю, и в каком-то смысле это даже очень хорошо.
Его лицо снова стало серьёзным:
— На самом деле у меня больше никого нет.
— У тебя есть отец. Ты ведь всегда можешь вернуться к нему.
Он подал мне знак рукой не касаться этой темы, и я замолчал.
Данил сдержал своё слово, и через недели три переехал на новую квартиру. Мне как раз подфартило с удалённой работой, на которой предложили сразу в четыре раза больше прежней. Я ликовал. Теперь можно было не переживать за финансовые трудности, а валюту, которую получил Даня — сохранить. На радостях я прибежал к нему. Он встретил меня без всякого энтузиазма, выслушал, и проводил домой. Я знал, что ему требовалось много времени на учёбу, и решил не беспокоить пустыми расспросами. Наверное, снова немецкий, подумал я.
Но на следующий день, Данил поймал меня телефонным звонком, пока я был дома:
— Эд, нужно чтобы ты прошёл все анализы. Пойди в платную клинику. Сегодня.
— Зачем? — Удивился я.
— Будем оформлять документы. Время дорого.
После института я побежал в платную клинику, и на утро сдал анализы крови. Через четыре дня все документы были на руках. Данил осмотрел их, и улыбнулся:
— Всё в порядке, Надежда. Будем жить. Запомните: хрен находка для болезней.
Он выглядел опустошённым.
— Даня, что-то случилось? Почему у тебя такой вид?
Данил лишь слегка обнял, но не сказал ни слова, даже глупой пошлой шутки. Потом добавил:
— Устал. Скоро пройдёт.
Но скоро никак не проходило. На выходных, когда мы должны были побыть вместе, Данил сорвался по-настоящему. Было утро. Я вернулся из магазина, и пожаловался на страх ехать за границу без знания языка и хорошей профессии. Даня неожиданно зыркнул исподлобья, и взорвался:
— Никакой! Больше ни одно слово к тебе не подходит! Никакой. Ты видишь себя пустым, хочешь быть пустым, и тебе нравится изображать пустоту! Какого ты хрена ко мне прилип? Нравится заполнять свою жизнь чужими красками? Нарисуй свою! Маменькин сынок! Думаешь, я такой крутой? Нравится, когда я кричу на тебя? Когда хамят? Да? Ты ведь получаешь от этого удовольствие. Не скрывай! Но это всё напускное. На самом деле — мы с тобой совершенно одинаковы. Я такой же никакой внутри, как и ты. Два ничтожества решили объединить усилия!
Я безмолвно стоял, не понимая, для кого он кричал все эти обидные слова.
— Я обращаюсь к тебе! Слышишь! Урод! Ты ещё не заплакал? Не прикрылся конспектиком? Не спрятал свои человеческие жалкие ужимки? Какого ты ко мне приперся? Молчишь?
Данил хлопнул со всей силы в ладоши прямо перед моим лицом. Немного успокоившись, он подошёл ближе, и прошептал:
— Убирайся вон, ничтожный пустой человек.
Когда дверь закрылась за моим носом, я подумал: «Что-то нужно делать». Но что делать? Где достать такую инструкцию, в которой был бы рецепт. Если ваш парень орёт на вас и называется никчемным человеком, тогда... Впрочем, Даня был прав.
Я уселся на лестничной клетке. Мне даже грустно не было. Мне было никак. Слова Данила, кажется, совсем не коснулись сердца. Всё, что он сказал — чистая правда, и я хорошо знал эту правду. Мне нравилось жить именно так. Быть никем, незаметным, бесцветным, с налётом кажущейся интеллектуальности и виртуальной доброты. Освещать жизнь чужими страданиями и радостями, пропуская собственные мимо. На деле, я не мог вспомнить ни одной цитаты, прийти на помощь в сложную минуту — не был готов. Мне казалось, я должен сочувствовать Данилу, но было не ясно для чего и зачем.
Как же теперь жить? Мои глаза устало глянули на дверь. Открыто? Даня не закрыл? Я подошёл ближе, вошёл внутрь. Он лежал на полу, закрыв голову руками, стонал и рычал, словно забитый зверь. Руки похолодели. Я вспомнил, что читал в книгах, смотрел в фильмах, как в таких случаях положено поступить: «Подойти, обнять, успокоить». Но это казалось невозможным. Я боялся, что ещё больше разозлю его. Он пугал. Очень пугал. Издавая сдавленные жуткие нечеловеческие звуки.
Я лёг позади него, и обнял за плечи, уткнувшись мокрым носом в затылок. Как мне было страшно. Как страшно. Через несколько минут Даня чуть успокоился, повернулся ко мне лицом, и прошептал:
— Эдичка, я так хочу жить, так хочу жить...
Мои глаза сомкнулись, словно тьма могла спасти нас от ужаса и боли, переполнявших комнату.
* * *
Был полдник следующего дня, когда Данил и я пришли в некий аналог порядка. Я убрал квартиру, сложил вещи, приготовил еды. Институт больше не тревожил, однако матери позвонил. Теперь вообще мало что волновало. Я заставил Даню лечь в кровать, а когда был свободен, рассказывал какие-то непонятные истории. Даня слушал. Было такое впечатление, словно нас поменяли местами. Теперь роль человека-пустоты играл он, а я был харизматичным циником. Иногда, в самом деле, с моего языка слетали страшные фразы: «Ничего, похороним тебя, вздохну спокойно», — шутил я. Лишь три раза Данил улыбнулся. После обеда, помыв посуду, я проник к нему под одеяло и обнял.
Мне казалось время безжалостно убегало от меня. Я считал секунды. Смотрел на лицо, словно пытался вылепить в сознании его точную копию. К вечеру Даня начал потихоньку шутить. Сперва малыми порциями, потом всё больше и больше. Он смеялся с моего метода паники.
— Итак, как паникует Эд? Учитесь! Уборка квартиры. Обнять парня! Приготовить еду. Обнять парня. Помыть посуду. Снова обнять парня. В любой стрессовой ситуации — обнять парня. Во! И самое смешное, только у нашего Эдуарда Крупская постоянно наготове. Нет, я честно поражаюсь. Надежда, перед вами можно сказать умирает человек, а вы до сих пор требуете разврата?! Где же ваша революционная солидарность? Извините, куда делась ваша непробивная застенчивость?
К вечеру Даня неожиданно «вернул» обед, пришлось мыть кафель. Я остался ещё на одну ночь. Сбегал за снотворным и успокоительным, на ужин приготовил овсянку на молоке, по просьбе «умирающего» почитал немного Гиппиус. Потом мы легли спать. Через час таблетка подействовала, и Даня засветился тихим спокойным взглядом. Мне тоже сделалось легче.
Луна аккуратно светила сквозь окно. Сверчки пели на улице.
О, часу ночному не верьте!
Берегитесь злой красоты.[2]
Наши глаза смотрели друг в друга, а я думал: «Почему бы не заболеть?» Лишь тот, кто всё потерял смог бы создать часовой механизм. Он изобрёл время, дабы заключить вечность в час, определяя горизонт жизни. А для нас, всё самое важное — лежало перед глазами. Секунды потеряли смысл, а кажущееся — тяжесть. Нет нужды в крыльях без притяжения, без обязанностей, долга доказывать существование. Будто каждое утро, мы просыпаемся и забываем о том, что были вчера, год назад, и всегда с момента рождения. Неужели вы верите, что человек начинает жить с какого-то часа? Вы живёте лишь иногда, просыпаясь, вглядываясь в звёзды, вспоминая, что были всегда, также как и они... Живёте лишь мгновение, когда забываете о времени, а умираете — когда снова вспоминаете о нём. Вечность — это не бесконечно многое, это бесконечно малое, жизнь жизней, а бессмертие — самая страшная — смерть смертей.
— Эд, я тебя сильно испортил?
— Чуть чуть. Это к лучшему.
— Тогда хорошо. А почему ты не спишь?
— Смотрю на тебя.
— Зачем?
— Хочется.
— Ты что влюбился?
— Теоретически не должен, но... кажется, возможно.
— Идиот?
— Повесть Достоевского.
— Ты не читал... Я серьёзно. Ты в меня влюбился?
— Прочту. Я тоже серьёзно. Не знаю.
Данил ласково коснулся губами бровей. Я подумал вслух:
— Может быть, это и есть любовь, просто другая. Та, про которую ещё не написано, не рассказано. Та, которая существует без страданий, слёз, но которая дарит свободу.
— Ты, правда, так думаешь?
— Наверное...
— Что будешь делать потом?
— Буду счастлив.
— Счастлив?
— Потому что встретил тебя. Кажется, теперь я всегда счастлив, Даня.
* * *
Данил принял волевое решение лечиться в Германии. Пока готовились документы, я имел право находиться рядом столько, сколько того бы ни пожелал. Взамен обещал забыть, отказаться от любых попыток искать, если только он сам не изъявит желание общаться. Наши странные отношения вот вот подходили к концу.
Май вошёл не постучавшись, распахнул окна летнего тепла. Оставалось шесть часов до отъезда. Я помог Дане собрать вещи, проверил всё ли сложено. Мы снова поменялись ролями: Даня говорил тихо, а я хамил и выкидывал пошлые шуточки.
Мы присели на дорожку. В прихожей стояли готовые чемоданы.
— Эд, — начал, было, Даня. — Кажется, у меня иссяк цинизм с иронией.
Он провёл ладонью, словно смахнул невидимую паутинку с глаз.
— А у благодарности нет слов. Но остался секрет.
Даниил улыбнулся:
— Знаешь, почему я с тобой?
Его слова растекались в душе, будто таяло сливочное масло:
— Потому что очень хотелось, чтобы кто-то разглядел во мне человека...
Голова Дани слегка кивала и кивала, словно каждый звук требовал кивка. Он встал, повернулся спиной, и почти уходя, добавил:
— Теперь я всегда счастлив.
февраль – март 2016
[1] Ауреус, реже аурей (лат. aureus) — древнеримская золотая монета
[2] отрывок «Цветы ночи», Зинаида Гиппиус